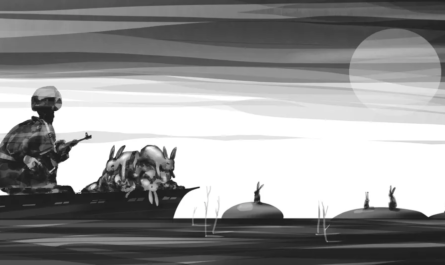Массовое сознание россиян переживает серьезные перемены: растет агрессия к власти, почти исчез запрос на «сильную руку», граждане все чаще требуют соблюдения их прав.

Эпидемия коронавируса и карантин дали людям время задуматься о происходящем. Таковые предварительные выводы двух исследователей — экономиста Михаила Дмитриева и психолога Анастасии Никольской. Они входят в команду, которая изучает общественные настроения в России методом, отличным от более привычных соцпросов. Это не количественные, а качественные социологические исследования, которые проводятся в фокус-группах, в личных беседах с людьми, о которых заранее известно, что они придерживаются определенных взглядов. Около 10 лет назад это позволило исследователям предвидеть то, что не рассмотрела «официальная» социология — взрывной рост протестных настроений, которые впоследствии выплеснулись на Болотную площадь. Что происходит с общественным мнением сейчас, под влиянием мощного карантинного стресса? Об этом — в разговоре с экспертами, который был организован при содействии Комитета гражданских инициатив.
— Предлагаю начать с обозначения некой базы, стартовой позиции, с которой российское общественное сознание подошло к марту — апрелю, когда общество, власть, страна в целом столкнулись с этим внезапным вызовом, «черным лебедем» в виде пандемии. Понятно, что и до этого в обществе шли какие-то процессы. Какие? В чем была их логика?
Михаил Дмитриев: Прежде всего, я хочу сказать, что мы с Анастасией представляем команду социологов и аналитиков, которые занимаются исследованиями изменений политических настроений населения уже больше 10 лет. И очень часто наши способы анализа этих настроений позволяют быстрее, чем обычное социологическое анкетирование, уловить переломные моменты в настроениях населения.
Последний такой переломный момент, наиболее серьезный, произошел сразу после президентских выборов 2018 года, когда фактически началось то, что можно назвать эрозией «крымского консенсуса». «Крымский консенсус» был очень стабильным состоянием общества, на протяжении трех лет мало что менялось. И мы тогда даже приостановили наши исследования, потому что наша методика рассчитана прежде всего на перемены в сознании, а оно, сознание, тогда как бы окуклилось. Но вот с 2018 года это окукливание фактически завершилось, настроения людей стали меняться. Независимо от того, куда вели официальные СМИ, официальная пропаганда, взгляды людей стали более самостоятельными.
За этот период мы провели уже, наверное, порядка десяти раундов разного рода исследований — и количественных, и качественных. К середине прошлого года, когда мы последний раз результаты этих исследований презентовали публично, в виде письменного большого доклада, уже обозначились очень серьезные изменения. Для людей внезапно совсем не бытовые, материальные ценности, а ценности, которые социологи называют постматериалистическими, стали выходить на первый план. И это подтверждается не только нашими результатами, но и данными других исследовательских центров: «Левада», «Циркон» и многих других.
Для людей на первый план стали выдвигаться вопросы правового государства, личных прав и свобод, соблюдения политических процедур, усилился запрос на политику и запрос на справедливость.
И в то же время люди стали более критично относиться к внешней политике, которая сложилась в период «крымского консенсуса». Люди стали предъявлять повышенный запрос на миролюбивую внешнюю политику и декларировать желание улучшить отношения со всеми странами мира, не вступая с ними в какое-либо противостояние, конфликт.
Эти изменения стали потихоньку проявляться и во внутриполитической сфере. До весны прошлого года отношение россиян к власти хотя и становилось все более критичным, все же почти не отличалось той агрессией, которую мы наблюдали в период протестов 2011–2012 годов. Люди довольно спокойно относились к властям, без лишних негативных эмоций. А вот с весны 2019 года эти эмоции уже стали проявляться, как и готовность к действиям, в том числе к публичным протестным акциям. Уже тогда, накануне протестов в Москве, мы указали: такого рода события вполне вероятны в более массовых масштабах, если для этого представится повод. Та же московская история (протестные выступления, поводом для которых стал недопуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму) интересна уже тем, что разворачивалась в конце июля — в августе, когда обычно в Москве никого, все разъезжаются в отпуска. Да и тот факт, что протестная активность приняла довольно массовый характер, подтверждает: тенденция, обозначившаяся еще год назад, стала действительно довольно серьезной.
Со второй половины 2019 года Анастасия и ее коллеги провели очень большую работу: количественные и качественные исследования в несколько раундов, чтобы разобраться, что происходит с ценностями. Собранные данные показывают, что система ценностей у россиян стала смещаться в сторону более зрелой, продвинутой формации. Прежде всего, это запрос на равенство всех перед законом, на правовое государство и на взаимодействие в рамках закона как основу существования общества. Вот это выдвинулось на первый план, будучи подкрепленным уже моральными ценностями людей. Для людей это стало более приоритетным, потому что, по их ощущениям, уже именно в этом, а не в вопросе уровня жизни, наша реальность начала отставать от запросов общества.
Так вот, к ситуации с коронавирусом мы подошли в состоянии углубленных ценностных конфликтов между населением и властью.
Несколько раундов исследований, проведенных с середины 2019 года, мы еще не успели окончательно обобщить, систематизировать, начав эту работу только весной. Но те выводы, к которым мы уже приходим, говорят, что изменения в сознании уже приобретают фундаментальный, ценностно ориентированный характер, что вообще редко когда-либо происходит.
Анастасия Никольская: Мы провели достаточно массовый опрос для понимания того состояния, в котором люди пребывали в начале периода самоизоляции — кажется, с 1 по 5 апреля. А потом, между майскими праздниками, провели такой опрос во второй раз, задав практически те же самые вопросы и дополнив их некоторыми новыми.
Если в начале периода самоизоляции преобладали тревоги (кстати, они были в основном не по поводу рисков инфицирования, а больше экономического характера, потому что уже тогда экономика и рынок труда начали реагировать на ситуацию), то подавляющей эмоцией сейчас у людей является не тревога и не страх, а раздражение, даже гнев.
— В чей адрес?
Анастасия Никольская: Это интересный вопрос, потому что такая эмоция может быть и диффузной, безадресной. Но нет, это раздражение достаточно адресное и направлено на власть. Причем это не про региональные власти, а про федеральную. И даже не про федеральную власть в целом, а в большей степени про президента. Отношение к региональным властям тоже довольно прохладное, но оно гораздо теплее, чем к федеральной. Вера в способность федерального правительства и лично президента принимать какие-то решения, чтобы справиться с ситуацией, всего за месяц упала катастрофически — просто в 3,5 раза. Сейчас людей, которые считают, что президент способен справиться с ситуацией — они в этом «абсолютно уверены» или «скорее уверены», — в нашем обследовании всего 3%.
— Какой-то нереальный показатель, на уровне статистической погрешности…
Анастасия Никольская: Практически — да. А вот людей, которые «абсолютно уверены» или «скорее уверены» в способности не федеральных, а региональных властей справляться с ситуацией, — их 7%. То есть, понимаете, в этом смысле совсем интересная динамика: у нас же всегда был «царь хороший, бояре плохие», а теперь это просто разворот на 180 градусов.
— Прежде чем двигаться дальше и обсуждать, во что этот разворот может вылиться, позвольте все-таки разобраться в готовности россиян совершить хотя бы частичный обратный обмен с государством и вернуть себе часть тех свобод, которые когда-то они обменяли на условную колбасу. Именно такая готовность просматривалась осенью, судя по исследованиям, о которых вы рассказывали. Но насколько этот тезис актуален сегодня, когда колбасы у многих, скажем прямо, за месяцы самоизоляции сильно поубавилось?
Михаил Дмитриев: Как ни странно, все равно запросы людей очень сильно сместились в политическую сторону. Анастасия об этом пока не упомянула, но в данных ее последних исследований заметно, что интерес к политике еще больше усилился. Это тенденция, которая наблюдалась и зимой, еще до кризиса, и сейчас тоже.
Более того, она переходит в осмысление вопросов собственно политической системы. Люди еще год назад стали активно обсуждать, и это было в нашем прошлогоднем докладе, в чем разница между президентской и парламентской республикой. В эпоху «крымского консенсуса» это было бы совершенно немыслимо — тогда все в целом одобряли идею единоначалия и концентрации власти в одних руках. Но год назад мнения уже разделились 50/50, а сейчас, судя по тому, что Анастасия получила в самых последних волнах исследований, люди начинают довольно жестко отрицать саму идею сосредоточения власти в одних руках. Сами люди такие слова, конечно, не употребляют, но в их ответах все чаще речь идет о сдержках и противовесах. И самое главное — о более прямой, непосредственной представительности интересов населения в политической системе. Грубо говоря, россияне все чаще хотели бы, чтобы интересы людей — не обязательно их лично, но разных социальных групп — были представлены конкретными политическими силами или политиками. И чтобы эти политики могли влиять на принятие решений.
— Давайте уточним. Речь о конкретных фамилиях или о каком-то институциональном оформлении?
Михаил Дмитриев: Речь именно об институциональном оформлении, именно об институтах политической системы. В отношении персоналий у Анастасии тоже есть интересные данные, которые хорошо перекликаются с тем, что было год назад, в начале 2019 года. Тогда наши исследования показывали очень низкую степень доверия ко всем представителям оппозиции: системным и несистемным. В том числе мы тестировали конкретные имена, того же Алексея Навального. Отношение ко всем было очень скептическое. Этой весной Анастасия снова пыталась оценить степень доверия к разного рода политическим фигурам. Судя по всему, ситуация еще более усугубилась.
В конце прошлого года — в начале этого появлялись в фокус-группах признаки того, что люди начинают выказывать симпатию к деятелям оппозиции. Но этот период был коротким, с началом кризиса все это снова ушло в никуда.
Получается, люди хотят иметь представительство, но без доверия такое представительство работать не будет. Однако граждане этого пока не осознают. Проблема доверия и делегирования этого доверия — очень-очень острая. Это, пожалуй, то, что грозит превратить дальнейшее развитие событий в тупиковую ситуацию. Люди, с одной стороны, разочарованы в том, как работают политические институты, но никакой разумной альтернативы при отсутствии доверия возникнуть не может.
— А что с пресловутым запросом на «жесткую руку»? Можно предположить, что его источником в возникшей ситуации могла бы стать «партия жесткого карантина» — те, кто считают, что если бы государство не мямлило, как мы это видели, а изначально ввело более строгие меры вплоть до комендантского часа, то мы бы вышли из карантина и быстрее, и с меньшими потерями и издержками. В этом плане что-то просматривается?
Михаил Дмитриев: Усиление запроса на права и свободы, соблюдение политических процедур и распределенное представительство интересов граждан очень плохо сочетается с любыми жесткими ограничениями. И хотя граждане считают, что власти сделали мало для противодействия пандемии, несколько волн опросов Высшей школы экономики, сделанные в поле эпидемии, тут же показывают, что население России не было склонно соблюдать никакие ограничения. У ВШЭ есть очень длинный список вопросов с упоминанием конкретных ограничений. И эти же вопросы задавались жителям многих стран Европы и США. В России дисциплина намного ниже, чем в развитых странах, — в 1,5–2 раза.
Для нас — это иллюстрация того запроса на увеличение гражданских свобод, которые, возможно, в случае с социальным дистанцированием и самоограничением, трактуются даже не вполне верно. Тем не менее это выраженный акцент. Словом, никаких признаков запроса на «сильную руку» нет. Повторю: доля ответов, что нам нужна система, в которой вся власть сосредоточена в одних руках, — очень и очень низкая, может быть, даже ниже статистической погрешности.
Анастасия Никольская: Я бы добавила про доверие. Абсолютно согласна, что ни к кому доверия нет: ни к действующим политическим институтам, ни к оппозиции. Но оппозиция-то в общем не проявила себя…
— Кроме «Пяти шагов» Навального…
Анастасия Никольская: Которые вообще никак не упоминаются, ни одним респондентом… Мы сейчас проводим серию телефонных интервью, и я не готова пока про это рассказывать, но вот на что просто хочу обратить внимание. Люди доверяют не оппозиции и тем более не действующим политическим институтам. Они доверяют гражданскому обществу. То есть фактически они склонны полагаться сами на себя. Говорят: нам не нужен лидер, чтобы как-то самоорганизоваться.
Быть может, это еще не зрелость гражданского общества, но его быстрое созревание. Это можно продемонстрировать даже на том примере, как люди реагировали на само наше исследование. Первой нашей идей было обратиться в Facebook: мол, мы хотим взять интервью, дайте, кто готов, телефоны, и мы будем вам звонить. Здесь мы, естественно, понимали, что на нас подписываются люди, настроенные определенным образом. Чтобы этот перекос выровнять, мы каждого просили: пожалуйста, найдите в своем окружении либо провластно, либо аполитично настроенного человека. Так вот, люди не просто скидывали нам телефоны провластных и аполитичных друзей, родственников и так далее. Они говорили: ребята, может быть, вам нужны деньги (а мы никем не финансируемся), нужна помощь, хотите, мы будем сами опрашивать? Это длится уже несколько недель, и буквально уже в каждом регионе находится человек, который говорит: слушайте, вы не успеваете, давайте я буду опрашивать, скидывайте мне список вопросов. Благодаря этому, по-моему, у нас уже не осталось населенного пункта, откуда нам не поступала бы какая-то информация. Это невероятно интересно.
— Но пойдет ли это дальше? Станет ли это действительно трендом, распространится ли это на более привычные, более близкие всем нам сферам жизни? У нас же многоквартирный дом не соберешь порешать какие-то важные вопросы…
Анастасия Никольская: Михаил, собственно, об этом и говорил. Действительно, мы получили в нашем исследовании, в мартовском, свидетельство роста интереса к политике. Массового роста. Кто еще недавно был аполитичен, у тех возрастает интерес к политике. Естественно, мы задаем вопрос: почему тебе-то это стало интересным? Ответ: понимаете, политика стала влиять на мою жизнь…
— Политика занялась мной, хотя я ею не занимался.
Анастасия Никольская: Да, политика занялась мной… И это вопросы другого порядка, чем про то, строить во дворе детскую площадку или не строить. Очень небольшой, незначительный процент тех, кем политика еще не занялась, к кому она еще не пришла. Абсолютно, кстати, согласна с Михаилом, когда он в привязке к смене системы ценностей сказал, что сначала появляется какая-то активная часть населения, потом она начинает увеличиваться по мере того, как к ней будут примыкать конформистски настроенные граждане.
— То, что вы говорите, честно говоря, обнадеживает. У нас же общество принято считать незрелым, даже инфантильным. Государство-то ведет себя порой как прыщавый, неуравновешенный подросток, а общество — так и вовсе дитя… Из того, что вы говорите, следует, что все-таки мы вырвемся из этой в том числе выученной беспомощности? Получится у нас?
Анастасия Никольская: Вы знаете, общество перестало быть инфантильным. Буквально утром я брала интервью у женщины, которой 88 лет. Она абсолютно в здравом уме, живет в Петербурге. И как раз за власть. Она, как любой пожилой человек, хочет рассказать про свою жизнь: ребенком попадает в оккупацию в Краснодаре, при Хрущеве у них отнимают единственную корову в колхоз… Сейчас у нее взрослые внуки, ей не нужно уже ни о ком заботиться, она получает пенсию, у нее в соседнем дворе поликлиника, ей какие-то волонтеры приносят домой продукты, лекарства. У нее, как она говорит, хорошая жизнь, и поэтому она за Путина. А в конце этой нашей беседы она вдруг говорит фразу, совершенно меня поразившую: «Но с другой стороны, я понимаю, что мы из прошлого века. И президент из прошлого века. Вам нужен другой президент». Понимаете? Вот так.
Михаил Дмитриев: Я бы здесь вот что добавил, вернувшись к запросу на представительство интересов. Сам запрос этот сейчас выглядит инфантильно и нереалистично. Люди этого хотят, но, во-первых, у них слабое представление о реальных механизмах реализации этого запроса, работы альтернативных политических систем — той же парламентской республики, например. А во-вторых, если это представление и есть, оно заведомо идеализировано и нереалистично — при том низком уровне доверия к персоналиям, который делает невозможной представительную демократию.
Я начинаю испытывать испуг, поскольку это очень напоминает позднюю Перестройку. Сперва была волна энтузиазма, что демократия решит кучу проблем, но потом выяснилось, что реальная процедура демократии — это очень сложная штука. Особенно учитывая, что последние лет 15 российское общество очень далеко от реальных демократических процедур…
— Да, нас этой практики старательно лишали. Даже в тех объемах, которые мы успели получить…
Анастасия Никольская: Да! Но смотрите: нашим респондентам, которые ратуют за парламентскую республику, а их действительно подавляющее большинство, — в общем, им не то чтобы кажется, что парламентская республика у нас раз — и построилась. Они говорят: ну, пару электоральных циклов будет какая-то анархия, это придется пережить. То есть это осознание, что мы будем проходить через какой-то сложный период…
— Анархия — это то слово, которым часто клеймят 90-е, которые мы уже тут упоминали. Есть ли какие-то подвижки к изменению отношения к этому периоду, переосмыслению его? Из ваших слов я понял, что появилась готовность его заново пережить — как некое условие, что мы из нынешнего состояния перейдем к работающим институтам, к той самой демократии, о которой все задумались.
Анастасия Никольская: Конечно, никто не хочет заново переживать 90-е — главным образом, потому что люди боятся снова какого-то разгула бандитизма.
— Есть, кстати, ощущение, что в период эпидемии это усилилось, потому что многие люди остались без денег. И некоторые пошли их добывать так, как они считают это для себя возможным.
Анастасия Никольская: Да, это есть. Но при этом — о чем в свое время еще Екатерина Шульман говорила — в обществе высокая нетерпимость к насилию. И в этом смысле второй раз мы уже не наступим на те же грабли. По крайней мере, такую надежду высказывают наши респонденты. Хотя понимание того, что это будет все равно непросто, оно присутствует.
— Многие для себя в эти месяцы отметили удивительную вещь: Россия, оказывается, может быть федерацией, причем не декоративной, какой стала за последние 20 лет, а близкой к тому, чтобы быть реальной. И нынешние губернаторы, оказывается, могут быть не только технократами, для которых самое важное — отчитаться перед начальством, но и вполне себе политиками, которые вынуждены едва ли не напрямую общаться с людьми. Как к этому отнеслось общество? Станет ли это некой новой нормой, с которой будет вынужден каким-то образом считаться и федеральный центр?
Михаил Дмитриев: В апреле впервые, наверное, за всю историю опросов «Левада центра» уровень доверия к руководителям регионов превысил уровень доверия к президенту.
— Это же страшная вещь. Были времена, когда губернаторы специально занижали свои рейтинги, чтобы не оказаться впереди главы государства.
Михаил Дмитриев: «Левада» не спрашивает об отношении к конкретному губернатору, а интересуется отношением к лидеру своего региона, без фамилии. Но этот анонимный лидер региона в апреле обогнал президента. Хотя, надо отметить, это связано с еще одним беспрецедентным в нашей истории событием — сам рейтинг одобрения президента, то есть ответ на вопрос «Одобряете ли вы деятельность президента Владимира Путина?», упал в апреле до уровня, невиданного в 2000-е годы. Он оказался на уровне, который близок к периоду, когда Владимир Путин был еще премьер-министром в 1999 году.
— Когда о Путине вообще только начинали узнавать.
Михаил Дмитриев: Да. Второй вариант рейтинга одобрения — когда людям предлагают назвать пять-шесть политиков, которым они больше всего доверяют. Как считается, это выявляет численность активных сторонников этих политиков. У Путина произошло снижение этого рейтинга более чем в два раза, если сравнивать с 2017 годом.
Все это, повторю, происходит на фоне очень быстрого ослабления позитивного восприятия возможностей федеральной власти. Но вот что интересно: этот запрос на то, чтобы у региональных властей было больше возможностей что-то решать, если хотите — на более последовательную реализацию федералистских механизмов в политической системе, мы почувствовали еще год назад. Тогда впервые за очень долгий период в фокус-группах внезапно стали появляться требования независимости регионов. Понятно, что это отдельные, немножко экзотические высказывания, но они давно не звучали. Теперь они встретились, в частности, в фокус-группе, которую мы проводили в Екатеринбурге; в некоторых дальневосточных фокус-группах тоже были такие настроения.
— Еще одна страшная вещь…
Михаил Дмитриев: Это как раз объективно соответствует разочарованию в единоличной форме политического правления. Люди хотят более распределенной системы власти, а если так, то это распределение должно происходить либо с точки зрения партийного представительства, либо с точки зрения территориального, с большими возможностями у регионов. В последние годы региональные власти были до крайности политически ослаблены, а губернаторы стали назначенцами, администраторами. А запрос как раз на то, чтобы у региональной власти было больше возможностей для реагирования на нужды собственного населения и меньше зависимости от федеральных властей.
— Объявляя о конституционной реформе, Владимир Путин как бы отвечал на запрос на перемены, который он сам упомянул в своем январском послании. Но есть и вторая задача — сохранить контроль над этими переменами, чтобы избежать сценария той самой поздней Перестройки. Что теперь с этим запросом на перемены, как и с задачей сохранить и удержать власть?
Анастасия Никольская: Да, здесь, наверное, самое важное, что я бы хотела сказать. Как я уже сказала, раздражение, агрессия в адрес власти оказалась направлена, главным образом, на президента лично. Люди говорят, что рыба гниет с головы и, соответственно, все это нужно менять. Поэтому, к вашему вопросу, об обнулении — это уже практически нереализуемый сценарий, если бы он реализовывался в более-менее легитимных рамках.
— То есть, если в ближайшее время нас все-таки позовут на это общероссийское голосование, его итоги уже не будут теми, на которые рассчитывает власть?
Анастасия Никольская: Если это будет какая-то легитимная процедура, без фальсификаций, то нет.
Михаил Дмитриев: Но здесь я бы внес определенную оговорку. Наши качественные опросы сигналят о меняющихся тенденциях, количественные опросы улавливают другие пропорции в общественном мнении. «Левада центр» дважды проводил опрос в течение эпидемии, и во втором опросе в конце апреля, наоборот, количество граждан, желающих голосовать за поправки в Конституцию, подросло, хотя и незначительно. Но это не значит, что в беседах с социологами люди не скажут им то, о чем Анастасия рассказала. Это, скорее, свидетельство пассивной поддержки в данном конкретном контексте и высокой устойчивости определенных паттернов политического поведения избирателей, когда они привыкли голосовать за инициативы властей.
— Некая политическая дань, заплатив которую, люди уйдут думать о своем дальше?
Михаил Дмитриев: Да, доля таких людей очень большая. Анастасия говорила, что конформистов в любом обществе много, в нашем — тоже. И эта пассивная позиция довольно распространена.
Анастасия Никольская: Очень важный момент: телефонные интервью, которые мы сейчас проводим, в значительной мере отличаются от любого телефонного опроса. У нас все звонки «горячие», это когда люди сами хотят дать интервью либо когда реагируют на просьбу знакомых и родственников. В этом разговоре больше заинтересованности, а значит, наша выборка в какой-то степени более правдива. Буквально вчера мне сказали, что если я буду придерживаться либеральных позиций, мне сломают шею и ногу. Не знаю, почему именно ногу, но важно, со мной абсолютно откровенны, ничего не скрывают и говорят как есть.
И тут вот что еще важно. Участники прошлогодних московских протестов говорили, что хотели добиться от власти уважения, заставить признавать их права, хотели, чтобы власть их услышала. А вот, что я слышу сейчас: «Мы ничего не хотим от власти».
Михаил мне даже помог подобрать это слово — «постороннее». Власть стала чем-то абсолютно посторонним. Есть мы, а есть какие-то там они, и от них мы больше ничего не хотим.
Я же, прежде всего, психолог, поэтому дайте немного побыть психологом. Есть супружеские отношения, в которых мы можем о чем-то друг друга просить или что-то друг у друга требовать… Иногда доходит до скандалов, иногда до домашнего насилия, а иногда это просто развод. Вот у меня ощущение такое, что мы, общество, подаем на развод. Да, мы видим, как власть немного отступает: эти 10 тыс. на ребенка выделили, например. Но в наших интервью никто про это не вспомнил.
— Даже, как вы их назвали, провластных респондентов это не впечатлило?
Анастасия Никольская: Вообще. Никто. Ни один человек об этом не сказал! Перестали видеть что-то хорошее со стороны власти. В общем, это похоже на развод…
— Так что же дальше?
Михаил Дмитриев: Позвольте небольшой комментарий по поводу того, в чем особенность нынешнего экономического и социального кризиса по сравнению с предыдущими. И во что в результате это может вылиться осенью.
Все предыдущие кризисы, включая даже самый первый после Перестройки и распада СССР, приводили к ухудшению политических настроений в обществе с очень большим опозданием. Начало 90-х — очень хорошая иллюстрация: основной обвал уровня жизни произошел буквально в первые 1,5–2 года после распада СССР, а массовые протесты по поводу условий жизни, безработицы, невыплат зарплат и закрытий предприятий в России начались лишь во второй половине 90-х. На фоне Восточной Европы, по которой прошла волна массовых протестов, забастовок против ухудшения жизни, Россия какое-то время была едва ли не очагом стабильности в море массовых протестов. Кризисы 2000-х годов проходили по тому же сценарию, в относительно спокойной политической обстановке, с волнами протестов, которые догоняли с большим лагом, как это было в 2011–2012 годах, после кризиса 2009 года.
То, что происходит сейчас, сильно ломает эту картину, потому что резкое ухудшение политических настроений мы наблюдаем буквально в самом начале кризиса, в первый же месяц падения доходов из-за карантина. Это очень нетипично.
Нетипично и то, что резко выросла агрессия по отношению к власти, интерес к политической жизни, запросы на изменение политической системы. У меня есть гипотеза, что очень сильно повлиял именно карантин. Очень просто: в прошлые кризисы все были заняты выживанием, все силы уходили на то, чтобы адаптироваться к падению уровня жизни, а о более абстрактных вещах начинают думать, когда жизнь начинает налаживаться и на это появляется время. Сейчас же все совпало: и ухудшение материального положения, и страхи перед пандемией, и карантин. А карантин — это, прежде всего, изменение баланса времени у людей. Многие повседневные занятия, на которые тратилось время, у людей просто исчезли. И появилось время подумать. А поскольку карантин вызвал еще и чувство изоляции, страх, раздражение, это так или иначе выливается в агрессию. Именно это все сейчас, сразу, выплеснулось на власть.
Для нас для всех очень большой вопрос, что будет осенью. Анастасия предполагает, что это может быть проявится в росте политической активности. Но я не исключаю и обратного варианта: осенью все выйдут из карантина, поймут, что зарплата кончилась, сбережения тоже, работы нет, надо спасать семью, по кредитам платить, — и, засучив рукава, снова возьмутся за выживание. И тогда тот всплеск политизации, который мы увидели весной, выплеснется разве что в социальные сети, но не в реальную, повседневную активность людей. Впрочем, возможно нечто среднее, когда, несмотря на то что людям всерьез надо будет заняться своим выживанием, они уже не смогут переключиться на сугубо материальные проблемы.
По этой причине сейчас мы не делаем большого доклада, как делали обычно. Считаем, что состояние населения очень необычное и переходное. И вместо того, чтобы делать какие-то прогнозы, которые, на мой взгляд, были бы очень рискованными, хотим провести более углубленные исследования в начале осени. Тогда, я думаю, мы и сможем понять, как необычное развитие настроений в новый кризис спроецируется на политическое поле.
— Что может на этом поле предпринять власть? Заговорили об угрозе нового, экспертно-научного авторитаризма, когда людей в белых халатах, как прежде силовиков, начнут использовать для закручивания гаек, только уже не ради борьбы с терроризмом, а во имя санитарно-эпидемиологического благополучия. Вот эти авторитеты могут заполнить дефицит доверия, о котором вы сказали?
Михаил Дмитриев: Мне кажется, власти с большой тревогой наблюдают за тем, что происходит. Ведь, по сути дела это означает необходимость адаптировать к новым условиям всю систему политического контроля. Власти могут отреагировать очень нервно и совершить немало ошибок, которые будут вести лишь к эскалации кризиса. Так что не факт, что закручивание гаек может стать продуктивной реакцией в этой ситуации. Это дополнительный фактор неопределенности в дальнейшем развитии событий, и власть сама еще не знает, как лучше действовать.
Анастасия Никольская: Могу сказать, что только один человек, наверное, из 60–70 сказал, что карантин еще не скоро закончится и что пока опасно выходить на улицу. Все остальные говорят просто: вот сейчас это закончится, надо как-то выражать гражданскую активность. Думаю, мысль о том, чтобы под видом карантина закрутить гайки, очень сильно не понравится.
— Если попытаться отойти от политики. Общим местом стало, то, что мир после пандемии станет другим. В ваших интервью просматриваются какие-то наши, российские иллюстрации в подкрепление этого тезиса?
Михаил Дмитриев: Мои впечатления таковы, что социальное взаимодействие оставило в стороне разного рода корпоративные, политические иерархии. Вертикально структурированная организация общественных отношений оказалась в стороне от реальной жизни людей. Работа на удаленке выстроена так, что человек видит прежде всего коллег, а не начальство. Общение с миром ушло в социальные сети, где все абсолютно горизонтально по определению.
Мне кажется, за эти полтора месяца произошел какой-то переломный момент, который сильно ослабил влияние старых иерархических методов социального контроля и даже просто старых форм взаимодействия. Люди уже не вернутся полностью в старое общество. А в новом обществе будет гораздо больше возможностей для проявления индивидуальной инициативы и взаимодействия, основанных на кооперации, нежели на подчинении.
Главное, что прочный фундамент для этого создают новые коммуникационные технологии. Они позволяют реально людям и зарабатывать, и выживать без оффлайн-интеграции в сложные иерархические системы. У многих людей появляется самодостаточность и уверенность в том, что они —самостоятельные индивиды, способные сотрудничать с другими. А это идет вразрез и с тем, как устроена наша политическая иерархия.
Александр Полозов
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)