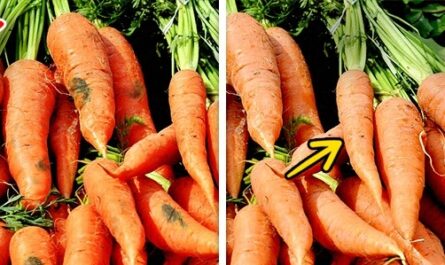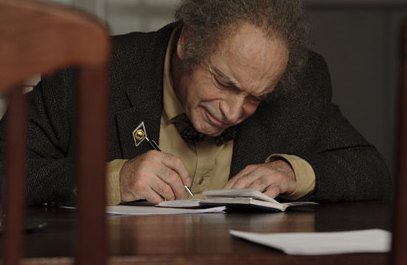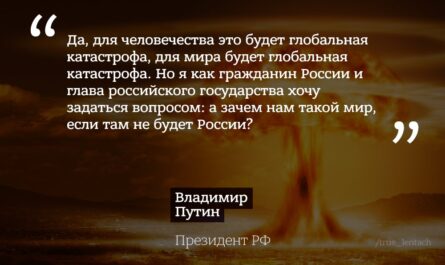В юности меня пригрела слава. Точнее сказать – огрела. Окатила ливнем всегородской известности, заливаясь за шиворот, забиваясь в уши и (если уж доводить образ до конца) слегка подмочив мозги, в ту пору и без того пребывавшие в довольно скорбном состоянии

Началось с того, что, учась в девятом классе музыкальной школы при консерватории, я послала в популярный московский журнал один из многих своих рассказов, которые строчила подпольно, кажется, с ясельного возраста. Что мною двигало? Наивная провинциальная наглость.
В рассказике, довольно смешном, фигурировали некоторые наши учителя, под своими почти именами и со своими физиономиями, воссозданными мною с антропологической точностью. Но самым смешным было то, что рассказ напечатали.
Общественность содрогнулась. Из шестнадцатилетней балбески, хронически не успевающей по точным предметам, я разом превратилась в облечённого пером обличителя нравов. Я послала второй рассказ – его напечатали! Послала третий – напечатали! А выпороть и усадить меня за алгебру было совершенно некому, потому что на родителей вид моей шкодливой физиономии на страницах центральной печати действовал парализующе.
(Теперь я понимаю, что это было не что иное, как коварство судьбы, заманившей меня в литературные сети, в которых я так и барахтаюсь до сих пор. Со временем я даже разучилась играть на фортепиано, потому что все консерваторские годы писала рассказы, а к экзаменам учила только партию правой руки, так как с правой руки сидит комиссия.)
С первого курса консерватории начался довольно тяжёлый период в моей жизни. На меня наложила тяжкую лапу одна гангстерская организация под скромным названием "Общество книголюбов". Там решили выполнить на моей лучезарной юности много лет горящий план по ПТУ. С кровожадной радостью меня бросили в пасть юного читателя, который если что и читает с интересом, так только трёхэтажный стих на стенах подъездов. Но сначала я всерьёз полагала, что призвана сеять в этих сквернословящих цветах жизни разумное, доброе, вечное.
Ради справедливости стоит отметить, что мне и на заводах приходилось выступать. И сейчас страшно вспомнить, сколько раз я отнимала у трудящихся их обеденный перерыв, который государство, между прочим, гарантирует им в трудовом законодательстве.
Но когда на очередной встрече с учащимися очередного ПТУ мне посоветовали из зала кончать трепаться, а лучше прошвырнуться на сквер вместе выпить пивка, я прозрела. Я поняла, что моя общегородская известность грозит перерасти во всенародную славу. И решила немедленно прекратить это безобразие.
Полгода я не отвечала на телефонные звонки и вообще всячески бегала от книголюбов, как бегает злостный неплательщик алиментов от своего личного, законного цветка жизни. Но однажды осенью меня застукали по телефону. Кротко и очень вежливо попросили выступить перед молодой аудиторией. Я осведомилась – не ПТУ ли это? Меня торопливо уверили – нет-нет, не ПТУ.
– А кто это?
– Молодая, пытливая аудитория.
– А где это? – спросила я.
И опять как-то подозрительно суетливо меня уверили: нет, не далеко, и машина будет. Гарантируют доставку в оба конца. Я помялась, похныкала ещё, ссылаясь на крайнюю занятость, что было вопиющей ложью, и наконец согласилась…
…В назначенный час я слонялась у подъезда "Общества книголюбов", ожидая обещанный транспорт. В сумке, перекинутой за спину, лежал мой творческий багаж – три столичных журнала с моими рассказами. Мне было восемнадцать лет, в активе я имела: новые джинсы, ослепительной силы глупость и твёрдое убеждение, что я – писатель. Пассив тоже имелся, но незначительный: несколько задолженностей по музыкальным дисциплинам и несчастная любовь за прошлый семестр.
Наконец подкатил транспорт – этакий крытый фургончик для перевозки небольшой компании. Вполне обычный "рафик", если не считать одной странноватой детали: окошки "рафика" были довольно крепко зарешечены.
За рулём сидел молодой человек в форме, из чего я поняла, что выступать придётся в воинской части. Молодой человек приоткрыл дверцу и крикнул почтительно:
– Товарищ писатель?
Я подтвердила со сдержанным достоинством.
– Сидайте в "воронок", товарищ писатель! – пригласил он приветливо.
Мы поехали… Когда в зарешеченном окошке ханское величие мраморных дворцов Ташкента сменилось глинобитным пригородом, я поняла, что воинская часть находится далековато. Когда кончился пригород и по обе стороны дороги разбежались хлопковые поля, я поняла, что это – очень далеко. А мы все ехали, ехали, ехали…
Часа через полтора машина остановилась перед высокими железными воротами, крашенными той особой темно-зелёной краской, какой у нас красят обычно коридоры больниц, тюрем и городских нарсудов – вероятно, для поднятия настроения. С ворот на глинобитный проулочек отнюдь не браво глядели две облупившиеся красные звезды.
Молодой человек в форме провёл меня через проходную, тоже несколько смутившую обилием решетчатых дверей, и мы пошли кривыми унылыми коридорами, пока не упёрлись в дверь с табличкой "Начальник колонии".
Я привалилась спиною к темно-зелёной стене и лопатками ощутила извечный холод казённого дома.
– Это… куда же мы приехали?.. – слабо спросила я моего конвоира.
– Как куда! В воспитательно-трудовую колонию… Нам писателя давно обещали, – и открыл дверь.
Комната была уставлена столами, столы завалены штабелями папок "Личное дело Э…". За одним из таких столов, между двумя башнями из красных и синих папок, глянцево блестело озерцо лысины.
– Доставил, Пал Семеныч! – гаркнул мой провожатый. По озерцу лысины даже ряби не пробежало. Начальник колонии поднял голову, обнаружив суровый нос, чем-то напоминающий приклад винтовки, и два маленьких, близко поставленных весёлых глаза. Этими глазами он несколько секунд оторопело меня разглядывал.
– Терещенко! Ты кого привёз? – спросил он. Терещенко испуганно вытащил путёвку "Общества книголюбов" и старательно прочёл:
– Пр… про-за-ика.
– Терещенко, я ж писателя заказывал!
Тут моя душа очнулась и затрепетала всеми фибрами авторского самолюбия.
– Я как раз и есть писатель! – воскликнула я. – Прозаик, это кто пишет длинными строчками и не в рифму. Так что вы зря беспокоитесь! Вот… – я судорожно выхватила журналы из сумки. – Вот… можете убедиться…
Начальник колонии надел очки и довольно долго изучал страницу журнала, время от времени поднимая от моей фотографии сверяющий милицейский взор. Потом крякнул, вышел из-за стола, одёрнул форменный китель и подал мне твёрдую ладонь ребром, тоже похожую на приклад винтовки. Я обхватила её и потрясла как можно внушительней.
– Мда-а… – как-то многозначительно протянул он, прикидывающе обмеряя взглядом всю меня, с моей сумкой, джинсами, рассказами и журналами.
– Значить… вот что я скажу… Народ у нас молодой, искусство люблить… Люблить искусство, – повторил он твёрдо и замолчал. Но вдруг встрепенулся и горячо продолжил: – Здесь что – главное? Главное, ни хрена не бойся. Это, как с хищниками: нет куража – хана дело, веники… А я тебе милиционера дам и двух воспитателей. Сам я тоже пойду… Для авторитета… Вот… Вы на какие темы лекции проводите?
– На морально-этические… – пробормотала я, чувствуя слабость в коленях.
– О! То, что надо! Нам очень нужен идейный уровень!.. Терещенко! Пригласи Киселева с Абдуллаевым.
Терещенко вышел, а начальник мне сказал:
– Мой совет. Шпарь не останавливаясь. Пауз не делай. Чтоб они не опомнились… Ну… с Богом!
Он пропустил меня в дверях и повёл по коридорам. У выхода к нам присоединились Терещенко и ещё двое в форме.
Пока я шла под конвоем по огромному двору колонии, начальник, не без гордости простирая руку то вправо, то влево, бодро говорил:
– А там вон ремонтный цех, ребята вкалывают, стараются. За ударный труд – досрочная воля… или что-то в этом роде. Я шла, как в дурном сне, по пути нам успели встретиться двое колонистов, к моему неприятному изумлению, не в наручниках и без вооружённого конвоя. Шли просто так, сами по себе – проходя, зыркнули на меня одинаково набыченными глазами из-под бритых лбов. Конвою-то у меня маловато, подумала я обречённо.
Подошли к большому деревянному бараку, вероятно здешнему очагу культуры. Внутри гудело.
– Народ уже согнали, молодцы, – удовлетворённо заметил начальник. – Это наш актовый зал…
Несмотря на состояние сильнейшей анестезии, я отметила, что их актовый зал похож на вагон-теплушку времён войны: длинный, дощатый, битком набитый серо-черными ватниками. Лица же над ватниками… Лиц не было. Я их не видела. Страх и отвращение слепили глаза. Были серые, тусклые, бритоголовые рожи. Без возраста. Все это гудящее месиво удерживали несколько воспитателей, снующих вдоль рядов. Начальник колонии помог мне взойти на сколоченную из досок сцену с разбитым фортепиано, скалившимся открытой клавиатурой, и зычно крикнул в зал:
– Значить, так!! Здесь сейчас выступит… пру… про… заик… Чтобы было ша!
Ватники, с кочками бритых голов, озверело затопали, засвистели и нецензурно-восхищённо заорали. Надо полагать, здесь это считалось аплодисментами. Потом наступила… Ну, тишиной это можно было назвать только в сравнении с ядерным взрывом, но к этой минуте моё авторское самолюбие давно уже валялось в глубоком обмороке, и единственное, чего мне хотелось жалобно и страстно, – чтобы на зарешеченном "рафике" меня вывезли отсюда поскорее куда-нибудь. Зыбким голосом, не поднимая глаз от страницы, я бормотала текст своего рассказа… Прошла минута, две. Справа кто-то из ватников стал демонстративно мученически икать, слева – наоборот, так же натужно кашлять. Вдруг из задних рядов сказали громко и лениво:
– Ну, хвать уже! Пусть поёт…
Я запнулась и выронила журнал. Ужас мягко стукнул меня в затылок и холодными струйками побежал по спине. Тем более что я вспомнила про совет начальника – не делать пауз. Я попятилась по сцене, наткнулась на фортепиано и, не удержав равновесия, с размаху села на открытую клавиатуру… Ватники взревели от восторга. Барак сотрясался.
– Э-эй, кадра!! – орали мне. – Сыграй ещё этим самым!!!
Но дикий аккорд, неожиданно извлечённый из инструмента далеко не самой талантливой частью моего тела, как это ни странно, вдруг привёл меня в чувство. Я увидела путь к спасению.
Решительно плюхнувшись на колченогий стул, я ударила кулаками по басовому и верхнему регистрам, и ватники вдруг заткнулись.
– Я спою! – выкрикнула я в отчаянии. – Я спою вам "Первача я взял, ноль восемь, взял халвы"… Если… если будет ша!
Взяла три дребезжащих аккорда и запела им Галича… У меня тряслись руки и перехватывало горло, но я допела песню до конца и не прерываясь перешла на "Облака".
Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
И амнистия ни к чему…
пела я в гробовой тишине, и постепенно дрожь в руках унималась, и мой небольшой голос звучал свободней…
Я подковой вмёрз в санный след.
В лёд, что я кайлом ковырял,
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям…
На пятой песне один из ватников на цыпочках принёс стакан с водой и бесшумно поставил передо мной на крышку инструмента… Я пела и пела, не останавливаясь, не объявляя названия песен, я длилась, как долгоиграющая пластинка, вернее, как одна непрерывная кассета, потому что пластинок Александра Галича тогда у нас не существовало.
Когда в горле совершенно пересохло, я потянулась за стаканом воды и бросила взгляд на ватники в зале. И вдруг увидела лица. И увидела глаза. Множество человеческих глаз. Напряженных, угрюмых. Страдающих. Страстных. Это были мои сверстники, больше – моё поколение, малая его часть, отсечённая законом от общества. И новый, неожиданный, электрической силы стыд пронзил меня: это были люди с Судьбой. Пусть покалеченной, распроклятой и преступной, но Судьбой. Я же обладала новыми джинсами и тремя рассказами в столичных журналах. Глотнув холодной воды, я поставила стакан на крышку инструмента и сказала:
– А сейчас буду петь вам Высоцкого. Они не шелохнулись. Я запела "Охоту на волков", потом "Протопи ты мне баньку", потом "Дом на семи ветрах"… Сколько я пела – час? Три? Не помню… Вспоминаю только звенящую лёгкость в области души, словно я отдала им все, чем в ту пору она была полна.
И когда поняла, что больше ничего не сыграю, я поклонилась и сказала им:
– Все. Теперь – все.
Они хлопали мне стоя. Долго… Потом шли за мной по двору колонии и все хлопали вслед.
Начальник радостно тряс мою руку и повторял:
– Что ж ты сразу не сказала, что можешь! А то – как мокрая курица: ко-ко-ко с журнальчиком…
На обороте путёвки "Общества книголюбов", где положено писать отзыв о выступлении, он написал твёрдым почерком: "Концерт прошёл на высоком идейном уровне. Отлично поёт товарищ прозаик! Побольше бы нам таких писателей!"
…Зарешеченный "рафик" унёс меня в сторону городской вольной жизни, к той большей части моего поколения, которая официально не была лишена конституционных прав. У подъезда "Общества книголюбов" я выпорхнула из машины и, перекинув сумку за спину, на прощание махнула рукой Терещенке.
Все, пожалуй… Но иногда я вспоминаю почему-то небольшой квадрат скользящего неба, поделённый прутьями решётки на маленькие, голубовато-синие пайки. И ещё вспоминаю: как они мне хлопали! Я, наверное, в жизни своей не услышу больше таких аплодисментов в свой адрес. И хлопали они, конечно, не мне, а большим поэтам, песни которых я пропела, как умела, под аккомпанемент разбитого фортепиано.
Не думаю, чтобы мой неожиданный концерт произвёл переворот в душах этих отверженных обществом ребят. Я вообще далека от мысли, что искусство способно вдруг раз и навсегда перевернуть человеческую душу. Скорее, оно каплей точит многовековой камень зла, который тащит на своём горбу человечество. И если хоть кто-то из тех бритоголовых моих сверстников сумел, отбыв срок, каким-то могучим усилием характера противостоять инерции своей судьбы и выбраться на орбиту человеческой жизни, я льщу себя мыслью, что, может быть, та давняя капля, тот мой наивный концерт тихой тенью сопутствовал благородным усилиям этой неприкаянной души…