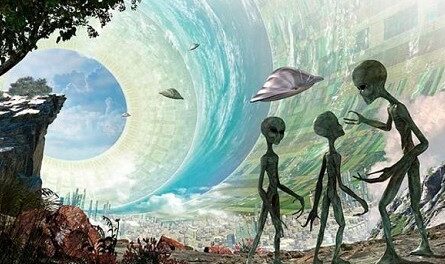Володя был слишком сам в себе, несмотря на открытость, распахнутость и доступность – качества, которые служили лишь щитом для всего сокровенного, очень личного, а потому и свято оберегаемого. И надо было действительно, как говорится, пуд соли съесть с ним вместе (а моя жизнь и его двадцать лет шли тесно бок о бок и только где-то с 1973 года стали расходиться), чтобы узнать его настоящего.

Более весёлого, остроумного балагура и рассказчика, чем Володя, даже скомороха, придумывающего вечно какие-то смешные истории, чтоб только нам всем было нескучно на наших посиделках, я в жизни не встречал.
Чего стоил его коронный этюд, когда он на улице разыгрывал «серьёзного» сумасшедшего, разговаривающего с фонарным столбом. Притом «держал» публику до тех пор, пока вокруг него (мы стояли чуть в стороне, как бы тоже зрители, чтоб не испортить «роль») не собиралось человек тридцать-сорок или пока какой-нибудь бдительный страж порядка не раздвигал толпу, чтобы выяснить, в чём тут дело. Тогда Володя говорил нам «ну ладно, ребята, пошли», и все собравшиеся, поняв, что их дурачили, взрывались хохотом.
Центральное место во всех наших бесконечных тогдашних посиделках отводилось гитаре. С осени 1961 года Володя стал писать песни. В это время я на несколько месяцев потерял его из виду, так как в очередной раз переходил с одной работы на другую…
А у Володи тоже были свои заморочки. Дело в том, что он, учась на четвёртом курсе Школы-студии МХАТ, женился на Изе Мешковой, окончившей школу-студию годом раньше и уехавшей работать в Киев, в Театр русской драмы.
Володя, как только выпадало свободное время, улетал к своей молодой жене. Но к осени 61-го эти его поездки почти прекратились. Когда я снова «прибился» к нашему кругу, первое, что бросилось в глаза, – это смена репертуара (я ещё не знал, что это сочинённые им песни) и Володино более свободное обращение с гитарой.
Он стал писать, притом лихорадочно, запойно, иногда чуть ли не каждую неделю он показывал нам что-то новое. Словно нашёл наконец выход своему остроумию и юмору, выплескивая их в песни.
1964 год стал для Володи знаменательным. Высоцкий был принят в Театр на Таганке. А я вскоре уехал в Магадан, в качестве собственного корреспондента газеты «Магаданский комсомолец». Перед отъездом в Магадан я устроил скромную отходную. Были только мама, моя сестра, моя тогдашняя девушка и Володя. Посреди застолья (что значит актёр, умеющий держать паузу!) Володя вдруг взял мою гитару, достал из кармана какой-то сложенный лист и попросил тишины. Это была песня, посвящённая моему отъезду. «Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу! Уехал сам, уехал сам, не по этапу, не по этапу…»
Уже после пришло и первое письмо Володи.
«Васёчек, дорогой! (Васёчек – так мы называли друг друга, это было что-то вроде пароля или клички; откуда это пошло, мы сами толком не могли потом вспомнить, но вроде бы кто-то ещё в школе сказал про нас – да они давно вась-вась. – Прим. авт.) Сука я, гадюка я, падлюка я! Несовейский я человек, и вообще – слов и эпитетов нет у меня! И жаль мне себя до безумия, потому никчёмный я человек! Оказывается, ты уехал почти полгода назад, а я и не заметил, как они пролетели, потому – гулял я, в кино снимался, лечился и т.д., и т.п., и пр., пр. Начну по порядку. Летом снимался в «Стряпухе» у Эдика Кеосаяна. Играл Пчёлку, и хоть Пчёлка – насекомая полезная и имя самое ласковое, однако не оправдал ни того ни другого. Запил горькую, дошло почти до скандала, даже хотели с картины уволить, но… всё обошлось, и с горем пополам закончил. Съёмки были под Краснодаром, в станице Красногвардейская. Там, Гарик, куркули живут, там, Васёк, изобилие, есть всякая фрукта, овощь и живность, акромя мяса, зато гуси, ути, кабанчики! Народ жаден, пьёт пиво, ест, откармливает свиней и обдирает приезжих. Ничего, кроме питья, в Краснодаре интересного не было. Стало быть, про этот период – всё.
После этого поехал в Гродно сниматься в фильме «Я родом из детства» минской студии. Там всё хорошо, скоро поеду к ним досниматься в Ялту. Написал туда для фильма три песни. Скоро выйдет – услышишь. Играю там изуродованного героя войны, пою и играю на гитаре, пью водку, в общем – моя роль.
А потом – чем дальше в лес, тем ну её на хрен! Приехал на сбор труппы, напился, и пошло… Любимов даже перестал бороться и только просил, чтоб поменьше. Люся была в трансе, я – гулял, рванина! Но ты, Васёк, не подумай, что, акромя питья, ничего не было. Играл, пел. Правда, частенько под булдой, но… всё-таки. Был у Андрея Вознесенского, он читал новую поэму – пьесу для нашего театра, очень это хорошо, стихи великолепные, а сюжет такой. Под Новый год застрял лифт, а в нём люди. Пока это всё недотянуто, но интересно.
Подарил мне книжку и написал там, что очень меня любит и что страшно ему за «мою незащищённость в этом мире». Недавно он в числе тёплой компании – Слуцкий, Твардовский, Сурков, Рождественский, Ахмадулина – ну ты, наверное, знаешь, был в Париже, приехал, выступали мы с ним в университете. Рассказывал, как его там принимали, в восторге от Парижа, обзывал Эльзу Триоле старой б… – она взялась его переводить и три года тянула резину. Потом пошли в ВТО, говорили тосты и пили – все, кроме меня. Не веришь? Напрасно! Дело в том, что… Но об этом позже. Я тебе собрался написать агромадное послание, так что терпи!
Наконец, после долгих боёв, разрешили «Павшие и живые». Проходит здорово. Женя Евтушенко сказал, что я гениально играю Кульчицкого, и даже написал об этом в «Культуре» – что-то вроде, что я – Маяковский, что я – Уитмен и ещё как-то про рёбра, про руки, словом – хорошо написал.
Моя популярность песенная возросла неимоверно. Приглашали даже в Куйбышев на телевидение как барда, менестреля и рапсода. Не поехал! Что я им спою? Разве только про подводную лодку. Новое пока не сочиняется. Решил, пока не поздно, использовать скандальную популярность и писать песни на продажу. Кое-что удалось.
А теперь вот что! Письмо твоё получил, будучи в алкогольной больнице, куда лёг по настоянию дирекции своей после большого загула. Отдохнул, вылечился – на этот раз, по-моему, окончательно, хотя зарекалась ворона… не клевать. Но… хочется верить, прочитал уйму книг, набрался характерностей, понаблюдал психов. Один псих – параноик в тихой форме – писал оды, посвящённые главврачу, и мерзким голосом читал их в уборной. Сейчас я здоров, всё наладилось. Колька Губенко уходит сниматься, и я буду играть Керенского, Гитлера и Чаплина вместо него. Мандраж страшный. Но… ничего, не впервой.
Вот, пожалуй, пока и всё. Пиши мне, Васёчек. Извини, что без юмора, не тот уже я, не тот. Постараюсь исправиться. Обнимаю тебя и целую. Васёк».
…Через несколько лет Володины наблюдения за психами выльются в песню о Бермудском треугольнике. Помните? «Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась…»
Второе письмо с ответом на моё пришло в июле 66-го.
«Дорогой Васёчек!
Сижу в городе Тбилиси, в номере гостиницы «Колхеты», на шестом этаже, в № 602, с женой моей Люсей. Я с театром на гастролях (Тбилиси, Сухуми). Гастроли – это когда измученные, обалделые артисты дают финты в Москве, канючат, смотрят налево, направо, на «Мосфильм», на «Московскую особую» и их увозят злые администраторы подальше от столичных соблазнов. Говорят – надо, гастроли – это очень важно, это прекрасно. Нужно подтянуться и… Тут, откуда ни возьмись, появляется второе дыхание, играем на полную железку. А потом мы уедем, придут другие, ещё лиричнее, но это будем не мы – другие.
Приехали мы на две недели в Тбилиси, а потом на десять дней в Сухуми. Грузины купили нас на корню, мы и пикнуть не смей – никакой самостоятельности. Все рассказы и ужасы, что вот-де там споят, будут говорить тосты за маму, за тётю, за вождя и т.д., будут хватать женщин за жопы, а мужчин за яйца и т.д., всё это, увы, оправдалось. Жена моя, Люся, поехала со мной и тем самым избавила меня от грузинских тостов «алаверды», хотя я и сам бы при нынешнем моём состоянии и крепости духа устоял. Но… лучше уж подстраховать.
Так она решила. А помимо того, в первый раз в жизни выехали вместе. Дети в детском саду и яслях (детей у нас двое), а мы в гостинице. Остальных потихоньку спаивают, говорят: «Кто не выпьет до дна – не уважает хозяина, презирает его и считает его подонком». Начинают возражать. Что вы! Как это! Генацвале, а вечером к спектаклю – в дупель. Ну, это пока не очень часто.
Васёчек! Как тут обсчитывают! Точность обсчёта – невообразимая. Попросишь пересчитать три раза – и всё равно на счётах до копейки та же неимоверная сумма. И ты, восхищённый искусством и мастерством, с уважением отходишь. Вымогать деньги здесь, вероятно, учат в высших учебных заведениях, наверное, существуют профессора и кафедры, потому что все торговцы (фруктами, газировкой, бюстгальтерами и т.д.) – очень молодые и интеллигентные на вид лица. Так и думаешь – этот кончил экономический, этот химический, а этот просто сука. Больше ничего плохого нам грузины не делают, да и хорошего тоже. Правда, принимают прекрасно и вообще народ добрый и весёлый. Про Тбилиси писать больше нечего – мы здесь только три дня. Вернёмся к нашим баранам – в стольный город наш Москву.
Последние несколько месяцев очень был в себе, нигде не был, даже не заметил, как и время прошмыгнуло. Выпускаем «Жизнь Галилея» Брехта. Я играю Галилея. Ситуация была такая: Николай Губенко ушёл сниматься, я его везде заменил и начал репетировать Галилея. Керенского, Гитлера и Чаплина сыграл я, как это говорится, на унос.
А тут очень много времени пришлось потратить на то, чтобы убедить всех, что могу играть Галилея. Любимов вначале сомневался, не решался, чего-то выжидал, но потом бросился в омут, сыграл ва-банк и… вроде выиграл. (Видишь ли, я теперь очень скромный, про себя молчу, к тому же многие «доброжелатели» из родного «калефтива» всё равно говорят – зазнался, стал премьером, вроде так положено, если всё нормально, значит, что-то не то, значит, ссучился.) Тебе могу сказать, что всё это чушь, никаких перемен в себе не ощущаю в эту сторону, разве что стал чуть больше думать, больше уверен, стал не пить. Но… думаю, надо оправдать некоторые надежды этих «доброжелателей» и в самом деле чуть зазнаться.
Закончил фильм «Я родом из детства». Там у меня небольшая, но очень хорошая роль. Впервые не стыдно. Да! Васёчек! Умоляю тебя – не ходи смотреть фильм «Стряпуха». Посмотрел уже? Напрасно. Если нет – не ходи. Там блондин, всё время с похмелья, фильм отвратительный.
Гарик! Обязательно надо выходить в первые ряды, иначе можно всю жизнь только месить глину и никогда ничего не вылепить, хоть и знаешь, что можешь, а так и не вылепить. В связи с этим я плюнул на дурацкую щепетильность и, чтобы иметь возможность спокойно работать только в театре и там уже что-то создавать, написал песни к трём фильмам: в одном из них, верней в двух, сам снимаюсь: «Я родом из детства» в Минске, скоро выйдет, «Саша-Сашенька» – комедь, тоже в Минске, пока только идут съёмки, и «Последний жулик» – комедь, в Риге, там играет Губенко. Везде есть своя Высоцкая червоточина, которую ты любишь и в которой весь смысл и смак. А потом за это платят не очень-очень, но можно не заботиться о том, что нечего жрать, не метаться по телевидениям и т.д. Вот и всё.
Целую тебя, Васёчек! Пиши! Васёчек».
25 декабря 1966 года я прилетел из Магадана в Москву. Володя пришёл на следующий день и, едва раздевшись, после обычных слов «как здорово, что приехал», потянулся за гитарой со словами «я сейчас тебе кое-что покажу». И я услышал… «Что сегодня мне суды и заседанья! Мчусь галопом, закусивши удила. У меня приехал друг из Магадана – так какие же тут могут быть дела…» Я был тронут до невозможности. В этом тоже был весь Володя: он любил и умел делать подарки.

Автор Игорь Кохановский с другом Высоцким. Конец 50-х годов.
Новый, 1967 год мы отмечали вместе у Андрея Вознесенского. После я вернулся в свою магаданскую газету. А в первых числах июля получил от Володи такое письмо:
«Васёчек!
Я только что приехал из Ленинграда, из белых ночей. Тебя этим не удивишь, а мне в диковинку – ночь, а светло. Страшно, аж жуть!
В Питере снимаюсь в самой наиглавнейшей роли в фильме «Интервенция». Не очень большая, но наиглавнейшая роль большевика Бродского Евгения Израйлевича, партийная кличка Воронов. Устаю, потому что все ночи провожу в поездах. Вот сегодня приехал и сегодня уеду.
Спать в поезде – не сплю. Вчера, когда ехал туда, в купе попался полярник. Пил, сквернословил, жалился на жизнь и соблазнял алкоголем. А мне этого нельзя – пить и сквернословить. Я культурный человек. И не спать нельзя – я нервный. А он мне на женщин жаловался и хвастал сберкнижками. А сегодня, когда ехал сюда, в купе попался Валя Никулин, и беседы начались нескончаемые, с налётом шизофрении и достоевщины. Устал!
В театре – затишье. Осиротели мы, потому что главный болен и лежит в больнице. У него – желтуха, а вообще – неизвестно что. Потому что врачи спорят и проводят время в поисках истины. Мы к нему иногда ездим. Он очень пожелтел, а вид у него не очень. Сейчас желтизна спала и уступила место белизне. Пить ему нельзя и работать тоже, а он без етого, особливо без работы, не может.
Теперь насчёт песен. Не пишется, Васёчек! Уж сколько раз принимался ночью – и никакого эффекта. Правда, Зоя, та, что Оза, сказала, что и в любви бывают приливы и отливы, а уж в творчестве и подавно. Так что я жду следующего прилива, а пока ограничиваюсь обещаниями, что скоро-де напишу целый новый цикл про профессии.
Когда и как это будет – ещё не знаю, но обещаю. Детей мы отправили с детским садом и яслями на дачу. Люсечка моя отдыхает и изучает всякую всячину из сельхоз. жизни. Про Лысенку изучает. Очень трагичная история. Как он, Васёчек, много погноил людей и живёт, гад, и ничего.
Васёчек! Друзей нету, все разбрелись по своим углам и делам, очень часто бывает грустно, и некуда пойти голову прислонить. А в непьющем состоянии подавно.
Бабы, Васёчек, – это зло, от них все болезни наши душевные и нервные, а также и грехи наши тяжкие.
Жду не дождусь конца сезона. Устал смертно. Хоца на природу, тело в море купать хочу и разговоры говорить – не роли, а разговоры. А пока до свидания!
Друг твой Васёчек!»
А вот такое письмо я получил в январе 68-го:
«Дорогой ты мой! Самый наипервейший, распронаединственный друг, Васёчек!
Ё…я эта жизнь! Ничего не успеваешь, писать стал хуже, и некогда, и неохота, и не умею, наверное. Иногда что-то выходит, и то редко. И ни с кем ни про что не поговорить.
И все звонят – приходи… И всё время чего-то догоняешь, и не хочу ничего и никого видеть и не делаю то, чего хочется, потому что сам не знаю, чего хочется. Одно знаю точно, что есть только работа, много работы. И больше ничего.
А деньги – это дерьмо, хотя их хорошо тратить. А детей своих я не вижу почти совсем, и с бабами своими я запутался окончательно, а ломать ничего не хочу и не буду, во-первых, не решусь, а во-вторых, не очень хочется.
Недавно поймал себя на мысли, что нет дома, куда хочу пойти, и друзей нет в Москве. Епифан занял у меня 300 рублей, не смог отдать и сгинул, вот уже четыре месяца не звонит, только где-то на стороне рассказывает, что вот-де он друга потерял. А я у него ничего и не просил, хрен с ними. Он ходит и хвастается, мудак, какой он одинокий, жить негде, денег нет, к Высоцкому ему пойти нельзя, потому что он ему должен. И гордится этим.
Вот, мол, я какой – не как все. Роман мой с Татьяной затянулся. У меня никогда так долго не было. Но… хоть это и прекрасно, однако толку нет и не будет. А она с мужем разошлась, живёт в одной комнате с ним и не общается. А я только сочувствую, и всё.
Иногда, Васёчек, очень жалею, что бросил пить. По-моему, я тогда лучше жил и делал, как мне хочется, и не оглядывался, а сейчас я стал общественный элемент и кумир молодёжи, а это, наверное, работает как тормоз, что ли, или как сдерживающий центр…»
А через несколько месяцев, в мае, Володя во время очередного загула прилетел ко мне в Магадан.
…В этот вечер я дежурил по газете. Жил я тогда в доме буквально в паре минут ходьбы от типографии. Только сел попить чайку – звонок:
– Васёчек, это я!
Услышав голос Володи, я ничего не мог понять, так как сначала подумал, что звонят из типографии.
– Ты?! Ты где?
– Я здесь, в редакции. Звоню от дежурного милиционера.
Я всё ещё не мог поверить, что это Володя. Здесь, в Магадане…
Едва мы обнялись, он тут же мне выпалил, что приятель его приятеля оказался лётчиком, летающим в Магадан, и… вот он здесь.
По его виду я сразу всё понял.
– Володь, ты развязал?
– Слегка. Есть причина…
– Ну, причина всегда найдётся…
– Такая, как эта, раз в жизни…
– И что же это за причина?
– Понимаешь, Васёчек, сейчас Сергей Юткевич снимает фильм по рассказу Чехова «Сюжет для небольшого рассказа». На роль Лики он пригласил Марину Влади. Меня с ней познакомили… И я, Васёчек, пропал…
– У тебя с ней роман?
– Нет, но, кажется, будет… Сам не могу себе объяснить. Но вот чую сердцем – что-то будет… Она такая… А ты знаешь, как за ней все в Москве увиваются… И Женя Евтушенко, и Вася Аксёнов – все запали на неё… Обычно я бы сказал «такая баба», а про неё так не могу.
Это женщина во плоти, дама… Вот если бы можно было тут же жениться на ней, я бы с ходу женился. У меня никогда такой уверенности и такого желания жениться не было. Ты же знаешь всех моих баб. И желания жениться ни разу не было. А тут – сразу…
Позже я думал об услышанном, почему-то не придавая особого значения этой новости, ибо родилась она, насколько я мог понять, не до, а во время этого загула. А в такие периоды с Володей могло произойти всё что угодно и прекращалось сразу же, как только прекращался и сам загул. Мне казалось, что и на сей раз с этой новоявленной любовью будет то же самое.
На следующий день после дежурства по газете мне полагался выходной, и мы пошли бродить по Магадану. Я был в качестве гида, показывал районы, где когда-то находились лагеря, оставившие свои следы в перекошенных строениях барачного типа.
Проходя по центру города, мимо Главпочтамта, я сказал, что вот здесь получаю от него письма, которые он хоть и редко, но всё же мне пишет…
– Васёчек, давай зайдём, – встрепенулся вдруг Володя.
– Зачем?
– Хочу позвонить Марине.
– Куда?
– В Париж.
– Ну и что ты ей скажешь? – продолжал допытываться я.
– Скажу, что люблю её.
– Она воспримет это как шутку. Почему же ты не позвонил ей из Москвы и не сказал об этом? Неужели для этого необходимо было прилетать в Магадан?
– Нет, ты не понимаешь, – пытался убедить меня Володя. – Я ей скажу, что вот я прилетел к тебе, мы здесь с тобой (я ей всё о тебе рассказал, и она знает, какой у меня есть настоящий, замечательный друг), и говорим о ней, и ты мне сказал, что если я её люблю, то надо, чтоб она об этом узнала, и чем раньше, тем лучше, и поэтому я решил ей немедленно позвонить, следуя твоему совету…
– Васёчек, не дури. Она поймёт, что ты под хорошей банкой, и только посмеётся над твоей выходкой.
– Ну и что же, что под банкой… Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, мне смелости не хватало сказать ей об этом в Москве или позвонить оттуда.
Я понял, что от этой сумасбродной идеи отговорить его не удастся. Мы зашли на Главпочтамт.
– Девушка, мне необходимо поговорить с Парижем.
– С Парижем? Вряд ли. Но сейчас узнаю. Быть может, как-то через Москву. А какой номер в Париже?
– Не знаю.
– Как не знаете? А кому же вы хотите звонить?
– Марине Влади.
– Ну ладно, ребята. Я думала, у вас действительно что-то серьёзное…
– Девушка, милая, у меня очень серьёзное… Мне необходимо поговорить с Мариной Влади.
Телефонистка продолжала улыбаться, но уже не слушала Володю, так как, судя по всему, всё-таки соединилась с Москвой.
– Пятая, это Магадан. Здесь один чудак хочет заказать Париж, правда, не знает номера телефона.
Наступила пауза.
– Москва сказала, что попытается это сделать только в том случае, если разговор заказывает Ален Делон, Бельмондо или ещё кто-то из этой элегантной компании.
Мы вышли из Главпочтамта. На этом тема Марины была закончена.
А в результате этого краткосрочного «рейда» появилась ещё одна прекрасная песня – «Нагаевская бухта», или, как она названа в одном из Володиных сборников, «Я уехал в Магадан».
…Через некоторое время мне дали отпуск, я вырвался в Москву, и в это же время в Москву приехала Марина. И начались бесконечные посиделки – Володе хотелось показать Марине, какой у него замечательный круг друзей, людей творческих и потому интересных.
Однажды днём, я был у себя дома, позвонила Марина и сказала, что они с Володей скоро будут у меня. Когда я им открыл дверь, то по лицу Марины понял, что что-то произошло.
– Марина, что с тобой?
– Со мной – ничего. А ты посмотри на своего друга…
Володя был, что называется, «в пополаме».
– Ну ничего, сейчас он немного поспит и придёт в себя.
– Гарик, какое поспит! Сейчас уже четыре, а у него вечером «Гамлет»!
– Что же делать, Марин, я не знаю.
– Я тебя прошу, Гарик. Поезжай в театр, скажи Любимову всё как есть, что Володя не может сегодня играть, пусть заменят спектакль, – сказала Марина.
Я поехал. Попросил, чтобы меня проводили к Юрию Петровичу, и очень коротко объяснил, что случилось.
– Передайте вашему другу, что я сегодня же издаю приказ о его увольнении из театра. Всё. До свиданья.
Это было сказано жёстко, спокойно, даже, мне показалось, с какой-то расстановкой слов, чтобы, видимо, было понятно, что это всерьёз, а не просто очередная угроза.
Я вернулся домой. Володя вроде бы вполне оклемался, даже порозовел.
– Васёчек, Марина сказала, что ты в театр ездил и что…
– Юрий Петрович сказал, что сегодня же издаёт приказ о твоём увольнении.
– А-а-а, – почти зарычал Володя. Он резко поднялся, подошёл к столу, налил полстакана водки и выпил залпом. И вскоре опять отключился. Мы с Мариной вышли на кухню. Марина молча плакала. Моя мама стала её утешать, гладя по голове, как ребёнка.
– Надежда Петровна, – сквозь слёзы еле слышно говорила Марина. – Он же себя погубит. Я просто в отчаянии, не знаю, что делать.
Марину моя мама сразу, как говорится, приняла. Помимо того, что она была просто само очарование, она была такой естественной, никакой «звёздности» в ней не наблюдалось, и в то же время аристократизм чувствовался во всём – в манере себя держать, в сдержанности суждений, в стиле одежды. И ещё в ней угадывалась очень чуткая и широкая душа.
Когда Володя был в нормальном состоянии, он, казалось, светился весь от счастья, что с ним рядом такая женщина. А она, действительно, словно создавала вокруг удивительное умиротворение и радость. И моя мама почувствовала в Марине это редкое, истинно женское качество.
Вскоре она уехала, взяв с Володи слово, что он ляжет в больницу. Слово он сдержит. В общем, всё наладится.
«Володя любил веселить людей, потому что сам был фантастично веселым человеком»
Игорь Кохановский
…31 декабря 1968 года у Володи был какой-то вечерний спектакль, который кончался поздно, поэтому встретить Марину в Шереметьеве он попросил Севу Абдулова. И вот уже половина двенадцатого, а их всё нет. Володя места себе не находил. Я как мог его успокаивал, а он всё причитал, что вот, мол, первый Новый год вместе, и такой облом…
Наконец без десяти двенадцать в дверях мастерской показываются Марина и Севочка.
Было впечатление, что никого вокруг них не существует – они застыли в нескончаемом поцелуе и только покачивались в объятиях. И лишь с первым ударом курантов они оторвались друг от друга и взяли свои бокалы.
Через пару недель я вернулся в Магадан, а вскоре я получил письмо от Нины Максимовны, мамы Володи.
«…Очень плохи дела с твоим другом Васёчком. За время твоего отсутствия и после того раза он уже дважды побывал в больнице, но ни один раз не довёл дело до конца и, конечно, быстро срывался. Теперь он уже не бродит, а, обессиленный, лежит дома, бывает, что теряет речь, молчит по целым суткам… Это страшно. Мучается. Порой задыхается, кричит от боли, но остановиться не может… Здесь долго была Марина, он был с ней в порядке, но заводится после каждого её отъезда. В пятницу, 28 марта, после пятидневного мучения мы его водворили в больницу, а вчера, 1 апреля, он уже оттуда вышел с большим скандалом. Врачи отказываются его понимать и говорят, что из него ничего не получится. Да, милый Гарик, он, по-видимому, погибнет окончательно. Лечиться не хочет. Кругом скандалы и катастрофа, в театре полный крах, с концертами тоже. Фильм, снимающийся в Одессе, из-за него горит, здесь сейчас режиссёр из Одессы, все переживают, мечутся, а с него как с гуся вода. Он вчера после больницы зашёл домой и помчался на встречу к Марине. Обещал лечь в нервную (простую) больницу, но это всё бред, он ничего не хочет, никак и ни за что не несёт ответственности, ничего его не пугает, совесть потеряна, ни перед кем нет долга, даже передо мной. Друзей около него не осталось. Я уже измоталась до предела, много плачу, не сплю, чувствую свою беспомощность и вижу неминуемую гибель сына, страдаю от того, что не могу ему помочь и спасти. Ему теперь бывает так плохо, что вызываем даже «скорую» спасательную группу. У него отказывает сердце, давление было 60/0. Я думаю, что будет ещё хуже. Иногда он кричит на крик, мечется, иногда мы, обнявшись, рыдаем, но меня надолго не хватает… Дом наш превратился в проходной двор. Однажды его привезли бесчувственного посторонние неизвестные мужики в ночь и остались здесь ночевать. Я ухожу в 6.30 утра, закрываю дверь, он один… Потом кто-то заходит, помогает, но все уже устали, и осталась я одна, а уже не владею собой. Я бы могла много тебе написать, но ты так далеко, не сможешь помочь нам…
Я очень боюсь, что вдруг Володя куда-нибудь сорвётся, там будет с ним плохо, люди не будут знать, что делать, и он умрёт. Вот, дорогой дружочек, как всё плохо. Ответь мне…»

Конечно, я ответил, как мог утешил. Представил всю описанную ситуацию, и мне стало жутко обидно за него, за его талант, за его начавшуюся ломаться жизнь. И молил Бога, чтоб Володя дотянул как-то до моего возвращения. А я, между тем, устроился в старательскую артель – мыть золото. О чём не замедлил написать Володе, и тот тут же откликнулся на это событие песней.
«Друг в порядке – он, словом, при деле – завязал он с газетой тесьмой:
друг мой золото моет в артели – получил я недавно письмо».
Следом на адрес старательской артели пришла весточка от Володи:
«Васёчек! Обиды! Ну их на фиг! Не писал я тебе долго – это правда. Но… Я, Васёчек, всё это время шибко безобразничал, в алкогольном то есть смысле. Были минуты отдыха и отдохновения, но минуты редкие, заполненные любовными моими делами. Приезжала Марина – тогда эти минуты и наступали.
Были больницы, скандалы, драки, выговоры, приказы об увольнении, снова больницы, потом снова больницы, но уже чисто нервные больницы, т.е. лечил нервы в нормальной клинике, в отдельной палате. Позволял терзать своё тело электричеством и массажами, и душу латал, и в мозгах восстанавливал ясность, и сейчас картина такая: в Одессе всё в порядке, в театре вроде тоже – завтра выяснится, и завтра же приезжает Марина. Дел я наделал, Васёчек, – подумать страшно, но… вероятно, всё будет нормально. Вот!»
Прочитав это письмо, я представил всю описанную Володей картину очень живо, ибо видел его не раз в окончательном раздрыге, агрессивного, ничего не соображающего, и подумал, каково же было тем, кто был в эти минуты с ним рядом.
В 70-е с Володей мы виделись всё реже… Последние годы он играл со смертью – кто кого? Вот так, наверно, когда-то царские офицеры, изрядно выпив, на пари играли в «русскую рулетку» – заряжали барабан пистолета одним патроном, потом, не глядя, вращали барабан, приставляли дуло к виску и нажимали курок. Дикая бравада на грани идиотизма.
Или тут тоже актёрство взяло верх над здравым смыслом? Показать всем – вот какой я, мне всё нипочём?
Первое время после его смерти мне периодически снился один и тот же сон: будто он ушёл из театра Любимова и организовал свой, и вовсю репетировал, и меня приглашал на премьеру, которая должна скоро состояться, и, когда я от него уходил, он сказал вдогонку, чтобы я непременно был на премьере. «Ты-то ведь знаешь, что я не умер»…
Автор: Игорь Кохановский
фото: Виктор Баженов; Валерий Плотников/ EAST NEWS; личный архив И. Кохановского
Эти и другие истории из жизни Высоцкого можно прочитать в книге «Все не так, ребята!..» Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, cобранных Игорем Кохановским при участии Дмитрия Быкова», которая выходит в издательстве АСТ, Редакция Елены Шубиной