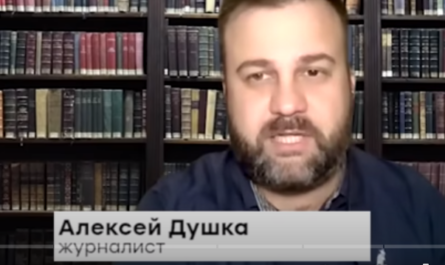Почему-то он выбрал именно меня своим приметливым, острым взором.
– Stravinsky? – спросил он, глядя не столько мне в глаза, сколько на розы, купленные в кладбищенском цветочном магазине.
– No, Brodsky! – с невольно извинительной интонацией ответил я.
Мне показалось, что я разочаровал синьора в шляпе.
Он резко повернулся на 180 градусов, так что гравий только заскрипел у него под каблуками.
– Reparto Evangelico, – скомандовал он, указав мне путь суховатым пальцем, чуть уже скрюченным артритом.
Я покорно пошёл туда, где в каменной стене виднелась железная дверь , а за ней надгробия, кресты и памятники неизвестных мне итальянцев.
Покойный Антон Носик, большой любитель и знаток разных кладбищенских тайн, рассказывал, что когда было принято решение похоронить Бродского на Сан-Микеле, в последний момент стало известно, что лежать ему надлежит прямо по соседству с сумасшедшим Эзрой Паундом и его возлюбленной, скрипачкой Ольгой Радж.
– Но как же так, – возмущалась вдова Бродского Мария Соццани, – ведь Паунд – фашист, поклонник Муссолини!
– Синьора, Паунд – большой, поэт, – убеждали ее венецианские начальники. – Это будет такой поэтический уголок на Сан-Микеле.
В результате долгих переговоров и уговоров могилу Бродского немного передвинули от камня с именем Paund. Чтобы не возникало ощущения, что оба поэта чем-то связаны между собой. В общем действительно ничем, кроме любви к Венеции и этих несчастных квадратных метров на Сан-Микеле.
Помню, что когда я первый раз туда пришёл, первое, что увидел, — это метлу, прислонённую к дереву. Была она себе вполне дворницкого, трудового вида. И я подумал, что если я здесь, то надо бы подмести могилу нобелевского лауреата. Я не стал покушаться на пластиковых сувенирных кошек, которые придавали благородному белоснежному памятнику с латынью на оборотной стороне какой-то инфантильно-легкомысленный вид, не стал их убирать. И ещё, российские монеты, будто собранные кем-то на паперти. Зачем они тут, эти деньги родины? Скромное подаяние от соотечественников, доплывших до острова Мертвых.
Кстати, сам Бродский никаких специальных распоряжений насчёт Сан-Микеле, насколько я знаю, не делал. Мол, только там. И нигде больше!
Есть всем известные стихи про Васильевский остров ( “Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров
Я приду умирать»). На них любил ссылаться первый петербургский мэр Анатолий Собчак. Он обожал окружать себя знаменитостями, живыми и мертвыми. Поэтому до последнего не оставлял идеи вернуть в СПБ Бродского и Барышникова. На любых условиях и в любом виде. По счастью, ни тот, ни другой на его уговоры и посулы не клюнули. И только теперь понимаешь, насколько они были правы!
В Венеции ты не можешь не думать о Бродском. В памяти все время звучит его грассирующий, немного гнусавый голос, каким его записала для своего фильма Лена Якович. Там, где он ходит под дождем с Евгением Рейном. И рассказывает, какую рыбу надо покупать на местном рынке и где лучше пить кофе. Иногда ИА сбивался на покровительственные интонации большого начальника, но быстро спохватывался и тут же переходил на иронично-дружеский тон, который все-таки больше подходит старым приятелям, пусть и вынужденным общаться под прицелом вездесущих кинокамер.
Тогда Лене и ее соавтору, режиссёру, безвременно рано ушедшему Алексею Шишову несказанно повезло.
ИА был настроен вполне мирно. Венеция и бубнеж Рейна действовали на него, похоже, успокоительно. Я совсем не почувствовал в нем того колючего, по-петербургски нелюбезного, невыносимо эгоцентричного, всегда готового к свирепой атаке ИА, каким он предстаёт в большинстве мемуаров своих современников. На что там они обижались, уже не вспомнить.
Например, покойный Анатолий Найман не стал скрывать своего раздражения, что Бродский назначил ему встречу в дорогущем туристском «Флориане», явно не желая считаться с нищими советскими суточными, которые полагались его гордому другу. Кстати, и разговора тогда не получилось. Какой-то вихрь светских знакомых и ничего не знающих формальных слов, никакой потребности обняться, вспомнить прошлое, на которую явно рассчитывал Анатолий Генрихович.
Эдуард Лимонов проклял Бродского за те несколько фраз, которые тот сочинил для promotion его дебютного романа «Я – Эдичка». Там было что-то про «Смердякова в литературе». По-моему, снайперски точно. Но Лимонов был в ярости.
Обиделась и по-прежнему несёт свою обиду, как хрустальную вазу, Эллендея Проффер, соиздательница «Ардиса», много сделавшая вместе со своим покойным мужем Карлом для успеха Бродского в Америке. А он, неблагодарный, грозил ей судом, если она посмеет опубликовать честные и скучные мемуары Карла.
Или Евгений Евтушенко, который оправдывался перед Соломоном Волковым буквально уже на смертном одре: клялся, что просил за Бродского у чинов в КГБ, и заступался, и хотел помириться. Ни в какую!
Разозлилась на ИА и та, по приглашению которой он впервые оказался в Венеции. «Он вёл себя как хам», – пожалуется мне Мариолина Марзотто, чьи духи «Shalimar» навсегда оставили свой волнующий след в «Набережной неисцелимых».
Сейчас я думаю, что какой бы это мог быть грандиозный спектакль или фильм вроде «Убийства в Восточном экспрессе», где все эти люди могли бы рассказать историю своей обиды на ИА. И первое слово по праву принадлежало бы главной героине всей лирики Бродского и матери его единственного сына Марине Басмановой. Она ещё жива.
Ей есть что рассказать, но она молчит. Молчит уже пятьдесят лет. Не хочет вступать в хор навеки обиженных.
Сейчас я думаю, что, наверное, это тоже свойство гения – терзать всех, кто оказывается на твоём пути. Проходить локомотивом по чужим судьбам и жизням, не особо прислушиваясь к стонам и проклятиям, несущимся из-под колёс. Ведь тебе дано слышать высшую музыку. И здесь, в Венеции, в эти зимние туманные дни, когда Бродский сюда приезжал после всех своих университетских трудов, она звучала для него с какой-то особой явственной силой. И эти набережные, и морская вода, исцеляющая раны и смывающая все обиды, и «бесплатный жемчуг уличных фонарей», и наконец этот остров, до которого я добрался, чтобы встретить странного господина в белом, поджидавшего меня с одним ему понятным паролем: «Stravinsky?»
– Бродский. Forever!
Тогда нам не по пути.
Хотя к Игорю Фёдоровичу я потом тоже зашёл. И к Сергею Павловичу Дягилеву. Всем досталось по розе.