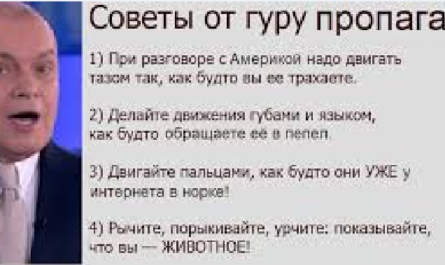Одну такую драму помню очень хорошо.
Дело было на биологии. Биологичка Прасковья Федоровна вызвала меня к
доске отвечать, чем однодольные растения отличаются от двудольных. Ну,
я,
хорошист заморенный, ей все сразу и доложил: у этих корни стержневые, а у
этих — мочковатые, у тех то, у этих — то…
Когда я закончил перечисление отличий, Прасковья Федоровна спросила:
— А еще?
Я сказал:
— Все.
— Нет, не все, — сказала Прасковья. — Подумай.
Я подумал и сказал:
— Все.
— Ты забыл самое главное отличие! — торжественно сообщила
учительница. — У
однодольных — одна доля, а у двудольных — две.
И поставила мне тройку.
Правильные ответы.
Тупизна – вещь, видимо, наследственная.
Это обнаружилось много лет спустя, когда у меня подросла дочка и жена
повела ее на тест в спецшколу. Дочке было шесть лет — училке, проверявшей
дочкино развитие, примерно тридцать. И вот она (в порядке проверки развития)
спросила:
— Чем волк отличается от собаки?
Дочка рассмеялась простоте вопроса (как-никак ей было целых
шесть лет) и, отсмеявшись, ответила:
– Ну-у, собаку называют другом человека, а волка другом человека
назвать никак нельзя.
И снова рассмеялась.
– Понятно, – сказала училка.
И нарисовала в графе оценки минус. Моя бдительная жена это увидела и
поинтересовалась, почему, собственно, минус. Тестирующая ответила:
– Потому что ответ неправильный.
Жена поинтересовалась правильным ответом – и была с ним
ознакомлена.
Ответ был написан на карточке, лежавшей перед училкой: "Собака – домашнее
животное, волк – дикое". Жена спросила:
– Вам не кажется, что она именно это и сказала?
Тестирующая сказала: не кажется. Жена взяла за руку нашу шестилетнюю,
отставшую в разви тии дочку и повела домой, подальше от этого центра
одаренности.
Через год в соседнее пристанище для вундеркиндов привели своего сына
наши приятели, и специально обученная тетя попросила шестилетнего Андрюшу
рассказать ей, чем автобус отличается от троллейбуса. Андрюша ничего
скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на
двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус – на силе переменного тока.
Оказалось: ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус –
без. И не надо морочить тете голову!
Страшные слова.
Первый раз в жизни я услышал слово "жид" классе примерно в четвертом —
от одноклассника Саши Мальцева. В его тоне была брезгливость. Я понял, что
во мне есть какой-то природный изъян, мешающий хорошему отношению ко мне
нормальных русских людей вроде Саши Мальцева, — и одновременно понял, что
это совершенно непоправимо.
А мне хотелось, чтобы меня любили все. Для четвертого класса —
вполне
простительное чувство. Полная несбыточность этого желания ранит меня до сих
пор.
Вздрагивать и холодеть при слове "еврей" я перестал только на четвертом
десятке лет. В детстве, в семейном застолье, на этом слове понижали голос.
Впрочем, случалось словоупотребление очень редко: тема была не то чтобы
запретной, а именно что непристойной. Как упоминание о некоем семейно м
проклятье, вынесенном из черты оседлости. Только под самый конец
советской
власти выяснилось, что "еврей" — это не ругательство, а просто такая
национальность.
Было еще одно страшное слово. Я прочел его в "Литературке". Дело было
летом, на Рижском взморье; я уже перешел в шестой класс и читал все, что
попадалось под руку.
Но значения одного слова не понял и спросил, что это такое. Вместо
ответа мои тетки, сестры отца, подняли страшный крик, выясняя, кто не убрал
от ребенка газету с этим
страшным словом.
Слово было — "секс".
Так до сих пор никто и не объяснил, что это такое.
Только "Правда"…
В Рейкьявике идет матч за шахматную корону: Спасский — Фишер! Иногда
мы даже разбираем с отцом партии. Я люблю шахматы, на скучных уроках играю
сам с собой на тетрадном листке в клеточку. Делается это так: в тетради в
клетку шариковой ручкой рисуется доска (половина клеток закрашивается той же
ручкой), а карандашом, тоненько, рисуются фигуры. Ход делается в два приема:
фигура стирается ластиком и
рисуется на новом месте.
Но я отвлекся, а в Рейкьявике Спасский — Фишер Какое-то время этот
матч — чуть ли не главное событие в прессе: через день публикуются партии с
пространными комментариями… Потом комментарии помаленьку скукоживаются,
потом исчезают тексты партий. А потом однажды я читаю (петитом в уголке
газеты): вчера в Рейкьявике состоялась такая-то партия матча на первенство
мира. На 42-м ходу победили черные.
А кто играл черными? И
кого они победили? И что там вообще происходит,
в Рейкьявике?..
Так я впервые был озадачен советской прессой.
О, это умение сказать и не сказать! Уже много лет спустя, в
андроповские времена, всей стране поставило мозги раком сообщение ТАСС о
южнокорейском лайнере, нарушившем наше воздушное пространство: "На
подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и
продолжал
полет в сторону Японского моря".
Как это: продолжал полет в сторону Японского моря? По горизонтали или
по вертикали? Стреляли по нему или нет? Военный был самолет или все-таки
пассажирский? Понимай как хочешь.
А еще лучше не понимай. Напрягись вместе со всем советским народом — и
не пойми.
Галич.
Дорога в стройотряд: плацкартное купе, оккупированное молодежью
семидесятых с гитарами в руках и либерализмом в башках. Человек, наверное,
двадцать набилось.
А на нижней полке, свернувшись калачиком, спит бабка — полметра той
бабки, не больше… Ну и бог с ней. Поехали! Взяли чаю, накатили какой-то
спиртной ерунды, расчехлили гитары, и началось вперемежку:
Высоцкий да Ким,
да какой-то самострок, да Визбор с Окуджавой…
Допелись до Галича. А что нам, молодым-бесстрашным!..
А бабка спит себе — глуховатая, слава богу, да и, мягко говоря, не
городская. Спели "Облака", дошли до "Памятников". Пока допели, поезд как раз
притормозил и остановился.
— И будут бить барабаны! Тра-та-та-та Бабка зашеве лилась,
приподнялась, мутно поглядела вокруг и сказала:
— А-а…
Галич…
И снова легла.
Тут нам, молодым-бесстрашным, резко похужело. Бабка-то бабка, а в каком
чине? Нехорошая настала тишина, подловатая… В этой тишине поезд, лязгнув
сочленениями, дернулся, и мимо окна проплыло название станции.
Станция называлась – Галич.
"Моралка" и "аморалка".
А моего приятеля Володю Кара-Мурзу в те же годы исключали из комсомола
за "аморальное поведение". "Аморалка" состояла в том, что он пел песни
Окуджавы.
Через пару лет комсорг, исключавший Володю, прославился тем, что
развелся с женой, брат которой был арестован по диссидентским делам. В
заявлении о разводе этот прекрасный человек прямо написал,что не хочет жить
с родственницей врага народа.
Это у них, стало быть, "моралка".Сейчас он полковник ГРУ. Но это так, к слову.
Вставай, проклятьем заклейменный….
В конце спектакля "Большевики" по случаю того, что Ленин еще не умер,
Совнарком в полном составе вставал и пел "Интернационал". Вставал и зал. А
куда было деваться?
Впрочем, я, молодой дурак, вставал, помню, совершенно искренне.
А отец моего друга Володи Кара-Мурзы не встал.
Спустя несколько минут уже на площади Маяковского к нему подошли двое и
поинтересовались: а чего это он не встал? Кара-Мурза объяснил — и его
арестовали. Вот такая волшебная сила искусства…
Где мак?.
В станционном буфете у столика стояла женщина и разглядывала кусочек,
оставшийся от съеденной булочки.
— Где же мак-то? — наконец она спросила.
— Чево? — не поняла буфетчица.
— Я говорю: где же мак-то? Я уж почти всю булочку съела, а мака так и
нету…
— Не знаю, — отрезала буфетчица. — У меня все булочки с маком!
— Так вот мака-то нету. Я-то ем, ем, все думаю: мак-то будет когда?
— А ты посмотри, может, он в конце там, — обнадежил кто-то из
сочувствующих.
— Да чего ж смотреть, уж ничего не осталось! — в сердцах крикнула
женщина. — Нету мака-то!
Этот диалог дословно записал отец, при сем присутствовавший. Год на
дворе стоял семьдесят девятый. Что мака не будет, было уже, в общем,
понятно.
Кориолан.
В театры я проходил по студенческому билету, но шел, разумеется, не на
галерку, а, дождавшись темноты, пробирался в партер, где всегда были
свободные места из невыкупленной "брони".
Таким образом оказался я и в партере театра Моссовета, где армянский
театр играл шекспировского "Кориолана" — на армянском языке, с русским
переводом. Я прополз по темному проходу, нащупал высмотренное заранее
свободное кресло, сел и стал шарить руками в поисках наушников.
— Держите, — с акцентом сказал голос рядом.
— А вы? — шепнул я.
— Мне не надо, — ответил голос.
И я надел наушники.
Хорен Абрамян был замечательным Кориоланом — огромным, страстным…
В антракте зажегся свет, и вдруг весь партер, по преимуществу,
разумеется, состоявший из московских
армян, повернулся в мою сторону и стал
кланяться, улыбаться, воздевать руки и слать приветы.
Секунд пять я пытался вспомнить, чем бы мог заслужить такую любовь
московской армянской общины, прежде чем догадался, что все эти знаки
внимания адресованы не мне, а человеку рядом со мной — тому самому, который
отдал мне наушники.
Я обернулся. Это был маршал Баграмян.
Как я был палестинским беженцем.
Это со мною случилось году эдак в семьдесят седьмом. Режиссер Колосов
снимал телефильм про то, как его жена, народная артистка Касаткина, будучи
советским корреспондентом, гибнет в Бейруте от руки израильской военщины.
Бейрут нашли в Троицком переулке — там были такие развалины, что
никаких бомбежек не надо. Подожгли несколько дымовых шашек — вот тебе
и Бейрут.
Палестинских беженцев подешевле набрали в Институте культуры, и в ясный
весенний день я за три рубля несколько раз сбегал туда-сюда из дымящихся
развалин на тротуар, а народная артистка Касаткина как раз в это время
несколько раз умерла насильственной смертью от руки израильской военщины.
Израильской военщиной были несколько здоровенных грузин,
найденных ассистентами Колосова там же, в Левобережном очаге
культпросветработы… И в целом тоже — очень правдивое получилось кино.
Джинсы – быть!!!
Вместо года на Бродвее советская власть разрешила нам две недели
гастролей в Венгрии.
И вот в последних числах мая 1980-го года я шагал по Будапешту —
свободный, как перышко в небе. Мне нравился Будапешт, но еще больше
нравилось ощущение абсолютной свободы. Я брел, куда глаза глядят, и набрел
на лавочку, в витрине которой
штабелями лежали джинсы. Настоящие! Не
подольский "самострок", сваренный в кастрюле, а натуральные "левайсы"
Ровесники поймут мои чувства без слов, а молодежи все равно не объяснить.
Я судорожно захлопал себя по карманам — и понял, что все мои хилые
форинты остались в гостинице. Сердце оборвалось, но интеллект работал, как
часы. Я подошел к ближайшему углу, записал название улицы, вернулся к
лавочке, записал ном ер дома,
идентифицировал место на карте — и рванул в
гостиницу.
Уже с форинтами в кармане, выбегая из отеля, я столкнулся с Катариной,
нашей переводчицей и гидом.
— О, ВиктОр! — обрадовалась она. — Как хорошо, что вы тут! Мы идем в
музеум: Эль Греко, Гойя…
Какой Эль Греко — левайсы штабелями! Я, как мог, объяснил Катарине
экстремальность ситуации, но не убедил.
— Джинсы — завтра, — сказала она. И тут я Катарину напугал:
— Завтра может
не быть.
— Почему не быть? — В глазах мадьярки мелькнула тревога: может быть,
я знаю что– то о планах Варшавского Договора? Почему бы завтра в Будапеште
джинсам — не быть? Но я не был похож на человека из Генштаба, и Катарина
успокоилась.
— Быть! — сказала она. — Завтра джинсы — быть! А сейчас —
музеум…
Репутация культурного юноши была мне дорога, и я сдался. И пошел я в
музеум, и ходил вдоль этого Эль Греко, а на сердце скребли кошки, и все
думал: ох, пролечу. Не достанется. Расхватают. Закроют…
Но Катарина была права — джинсы "быть" в Венгрии и назавтра. На каждом
углу и сколько хочешь. Я носил их лет пятнадцать.
Желание быть испанцем.
Шел восемьдесят четвертый год.
Я торчал, как вкопанный, перед зданием ТАСС на Тверском бульваре.
В просторных окнах-витринах светилась официальная фотохроника. На
центральной фотографии – на Соборной площади в Кремле, строго анфас,
рядышком – стояли король Испании Хуан Карлос и товарищ Черненко. Об
руку с королем Испании Хуаном Карлосом стояла королева София; возле
товарища Черненко имелась супруга. Руки супруги товарища Черненко
цепко держали сумочку типа ридикюль.
Но бог с нею, с сумочкой – лица! Два – и два других рядом. Меня
охватил антропологический ужас.
Я не был диссидентом, я был вольнодумец в рамках, но этот
контраст поразил меня в самое сердце. Я вдруг ощутил страшный стыд за
то, что меня, мою страну представля ют в мире и вселенной – эти, а не
те. В одну секунду я стал антисоветчиком – по эстетическим
соображениям.
Мало выпил.
В том же, восемьдесят четвертом, я сдуру увязался за своими приятелями
на Кавказ. Горная романтика… Фишт… Пшеха-су… Как я вернулся оттуда
живой, до сих пор понять не могу. Зачем-то перешли пешком перевал Кутх, — а
я даже спортом никогда не занимался. Один идиотский энтузиазм…
Кутх случился у нас субботу, а ранним утром в воскресенье мы вывалились
на трассу Джава– Цхинвали и сели
поперек дороги, потому что шагу больше
ступить не могли. Вскоре на горизонте запылил этот грузовик — торговый люд
ехал на рынок.
Не взяв ни рубля, нас вместе с рюкзаками втянули под брезент. Войны еще
не было, сухого закона тоже; у ближайшего сельпо мужчины выскочили из
грузовика и вернулись, держа в пальцах грозди пузырей с огненной водой.
А я был совершенно непьющий, о чем немедленно предупредил ближайшего
грузина.
— Не пей,
просто подержи, — разрешил он, передавая мне полный до
краев стакан.
И встав в полный рост в несущемся на Цхинвали грузовике, сказал:
— За русско-грузинскую дружбу И я, не будучи ни русским, ни грузином,
все это зачем-то выпил.
Чья– то заботливая рука тут же всунула мне в растопыренную ладонь
лаваш, кусок мяса и соленый огурец. Когда ко мне вернулось сознание, стакан
в другой руке опять полон.
— Я больше пить не буду! —
запротестовал я.
Грузин пожал плечами — дело хозяйское — и сказал:
— За наших матерей В Цхинвали меня сгружали вручную — как
разновидность рюкзака.
Но сегодня, после всего, что случилось в тех благословенных краях за
двадцать лет, я думаю: может быть, я мало выпил тогда за русско-грузинскую
дружбу?
Свадьба бабушки и дедушки
…состоялась, пока я был в армии. Вот как это было.
Дед, старый троцкист, лежал в больнице для старых большевиков (старым
большевиком была бабушка). При переоформлении каких-то больничных бумаг у
бабушки и попросили свидетельство о браке, и тут выяснилось, что дедушка —
никакой бабушке не муж, а просто сожитель.
В двадцать пятом году они забыли поставить в известность о своей
личной
жизни государство, отмирание которого все равно ожидалось по причине победы
коммунизма. Но коммунизма не случилось, а в 1981-м лечить постороннего
старика в бабушкиной партийной больнице отказались наотрез.
Делать нечего: мой отец написал за родителей заявления и понес их в
ЗАГС.
Отец думал вернуться со свидетельством о браке. Фигушки В ЗАГСе бабушке
с дедушкой дали два месяца на проверку чувств.
За пятьдесят шесть лет совместной жизни бабушка с дедушкой успели
проверить довольно разнообразные чувства, но делать нечего — проверили еще.
Потом — как вступающим в брак в первый раз — им выдали талоны на
дефицитные продукты и скидки на кольца. Отец взял такси и привез стариков на
место брачевания. Сотрудница ЗАГСа пожелала им долгих совместных лет жизни.
За свадебным столом сидели трое детей предпенсионного возраста.
Эстрада ждет.
Году эдак в восемьдесят четвертом случилось одно из первых моих
выступлений: на окраине Москвы, в парке имени Дзержинского.
Дзержинского там как раз не хватало. Придя за кулисы, я обнаружил
пьяного в зюзю конферансье — москонцертовского детинушку в розовой рубахе.
Детинушка явно нуждался в расстреле.
— Старик, — сказал он, когда я
втолковал ему, что в числе прочих
приглашен выступать. — Как тебя объявить?
Видя состояние товарища по эстраде, я печатными буквами написал в
тетрадке свое имя и фамилию, выдрал лист и отдал его в нетрезвые руки.
Конферансье прочел и сказал:
— Это мало.
— Нет-нет, — торопливо заметил я. — Совсем не мало. Больше ничего не
надо!
— Старик! — ответил детинушка и, приобняв меня, обдал
запахом, свойственным этой местности, особенно с утра по выходным. — Ты не волнуйся, я тебя объявлю. Это моя работа — подать артиста публике…
И он меня подал.
— Выступает! — торжественно крикнул детинушка, как будто за кулисами
ждал выхода как минимум Кобзон. — Лауреат премии журнала "Крокодил",
лауреат "Клуба 12 стульев" "Литературной газеты", лауреат…
Минуты за полторы он напророчил мне все звания, которые предстояло
получить в ближайшее десятилетие — и закончил:
— Виталий Шендрякевич!
Без разнарядки.
В восемьдесят шестом черт дернул меня подать документы в аспирантуру
ГИТИС.
Сдавши на пятерки специальность и что– то еще, я доковылял до экзамена
по истории партии. (Другой истории, как и другой партии, у нас не было.)
Взявши билет, я расслабился, потому что сразу понял, что сдам на пять.
Первым вопросом была дискуссия по нацвопросу на каком-то раннем съезде
(сейчас уже, слава богу, не помню, на каком), а вторым — доклад Андропова к
60-летию образования СССР.
Я все это, как назло, знал и, быстренько набросав конспект ответа,
принялся слушать, как допрашивают абитуру, идущую по разнарядке из братских
республик.
У экзаменационного стола мучалась девушка Лена. Работники приемной
комиссии тщетно допытывали ее о самых простых вещах. Зоя Космодемьянская
рассказала немцам больше, чем Лена в тот вечер —
экзаменаторам. Проблема экзаменаторов состояла в том, что повесить Лену они не могли: это был ценный республиканский кадр, который надо было принять в аспирантуру.
— Ну, хорошо, Лена, — сказали ей наконец, — вы только не волнуйтесь.
Назовите нам коммунистов, героев гражданской войны!
— Чапаев, — сказала Лена, выполнив ровно половину условия.
— Так, — комиссия тяжко вздохнула. — А еще?
— Фурманов, — сказала Лена, выполнив вторую половину условия.
Требовать от нее большего было совершенно бесполезно. Комиссионные головы
переглянулись промеж собой, как опечаленный Змей Горыныч.
— Лена, — сказала одна голова. — Вот вы откуда приехали? Из какого
города?
— Фрунзе, — сказала Лена.
Змей Горыныч светло заулыбался и закивал всеми головами, давая понять
девушке, что в поиске коммуниста– героя она на верном пути.
— Фрунзе! — не веря своему счастью, сказала Лена.
— Ну, вот видите, — сказала комиссия. — Вы же все знаете, только
волнуетесь…
Получив "четыре", посланница советской Киргизии освободила место у
стола, и я пошел за своей пятеркой с плюсом. Мне не терпелось отблагодарить
экзаменаторов за их терпение своей эрудицией.
Первым делом я подробно изложил ленинскую позицию по национальному
вопросу. Упомянул про сталинскую. Отдельно остановился на дискуссии
по позиции группы Рыкова– Пятакова. Экзаменаторы слушали все это, мрачнея от
минуты к минуте. К концу ответа у меня появилось тревожное ощущение, что я
рассказал им что– то лишнее.
— Все? — сухо поинтересовалась дама, чьей фамилии я, к ее счастью, не
запомнил. Я кивнул. — Переходите ко второму вопросу.
Я опять кивнул и начал цитировать доклад Юрия Владимировича Андропова,
крупными кусками застрявший в моей несчастной крупноячеистой памяти. Вывалив
все это наружу, я посчитал вопрос закрытым. И совершенно напрасно.
— Когда был сделан доклад? — поинтересовалась дама.
Я прибавил к двадцати двум шестьдесят и ответил:
— В восемьдесят втором году. В декабре.
— Какого числа? — уточнила дама.
— Образован Союз? Двадцать второго.
— Я спрашивала про доклад.
— Не знаю, — я мог предположить, что доклад случился тоже двадцать
второго декабря, но не хотел гадать. Мне казалось, что это не принципиально.
— В декабре, — сказал я.
— Числа не знаете, — зафиксировала дама и скорбно переглянулась с
другими головами. И вдруг, в долю секунды, я понял, что не поступлю в
аспирантуру. И, забегая вперед, скажу, что угадал. В течение следующих
двадцати минут я не смог ответить на простейшие вопросы. Самым простым из
них была просьба назвать точную дату подписания Парижского договора о
прекращении войны во Вьетнаме. Впрочем, если бы я вспомнил дату, меня бы
попросили перечислить погибших вьетнамцев поименно.
Шансов не было. Как некогда говорил нам, студийцам, Костя Райкин: "Что
такое страшный сон артиста? Это когда тебя не надо, а ты есть".
Я понял, что меня — не надо, взял свои два балла и пошел прочь.