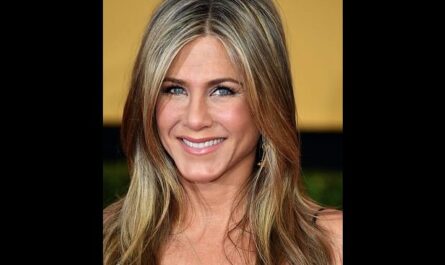Впервые о сотрудничестве с германскими нацистами в СССР заговорил видный большевик Карл Радек. Партия Гитлера тогда была еще кучкой маргиналов.

20 июня 1923 года Радек выступил на заседании пленума исполкома Коминтерна с речью, посвященной бывшему офицеру кайзеровской армии Альберту Лео Шлагетеру, расстрелянному французскими оккупационными властями в Рейнской области за организацию вооруженного сопротивления и ставшему одной из "икон" нацизма.
"Шлагетер, мужественный солдат контрреволюции, заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его", – заявил Радек, призвав германских националистов "объединиться с русскими рабочими и крестьянами для совместного свержения ига антантовского капитала".
Разъясняя 13 июля свою позицию, он сказал, что "в вопросе о сотрудничестве с нацистами не может быть и речи о сантиментах, это вопрос трезвого политического расчета".
Именно так, без сантиментов, подошли через 16 лет к сотрудничеству с Германией Сталин и Молотов.
Хроника сближения
Первые признаки грядущего сближения появились в 1938 году, когда СССР отозвал с должности полпреда в Берлине еврея Якова Сурица, заменив его русским Алексеем Мерекаловым, а официальные лица и газеты обеих стран, прежде обменивавшиеся словами, достойными портового кабака, а не великих держав, поддерживающих дипломатические отношения, сбавили тон. На какое-то время Москва и Берлин как бы перестали замечать друг друга.
Обе стороны вели себя будто осторожные купальщики, пробующие ногой воду.
Большинство козырей было на руках у Сталина: Гитлер, закусив удила, на всех парах мчался к войне, а СССР оставался последней крупной страной, не определившей позиции в будущем конфликте, и никуда не спешил, а старался дороже продать свою дружбу.
12 февраля 1939 года британский кабинет провел секретное совещание с участием представителей французского генерального штаба. Вывод союзников был однозначен: экономика рейха перенапряжена, стратегического сырья хватит на несколько месяцев, позиционная война на континенте вкупе с морской блокадой задушат Германию уже к началу 1940 года.
Правда, Лондон и Париж при этом неверно оценили возможности и намерения Советского Союза, спрогнозировав, что Сталин сохранит строгий нейтралитет.
24 мая начальник тыла германских вооруженных сил генерал Томас представил Гитлеру секретный доклад: авиабомб хватит максимум на три месяца "неинтенсивной" войны, артиллерийских и танковых снарядов – на три недели, топлива и алюминия – на полгода, цветных металлов – на три месяца, резины – на два месяца.
Поэтому немцы, по словам писателя-историка Игоря Бунича, вели себя с Москвой как бедные родственники, пытающиеся любой ценой попасть на обед к богатому дядюшке.
12 января 1939 года на новогоднем приеме в рейхсканцелярии Гитлер демонстративно подошел к Мерекалову и поговорил с ним. Беседа не выходила за рамки дипломатического протокола, но сам факт отметили все наблюдатели.
10 марта, выступая с отчетным докладом на XVIII съезде партии, Сталин необычно резко обрушился на Англию и Францию, назвав их "провокаторами войны" и обвинив в желании "дать Германии возможность впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко, поощрять их втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга и потом продиктовать слабеющим участникам войны свои условия".
В свете дальнейших событий многие современные историки полагают, что Сталин приписал другим собственные тайные помыслы.
В середине апреля Мерекалов уехал в Москву на совещание и в Берлин не вернулся. Новый полпред Александр Шкварцев был назначен лишь за несколько дней до заключения пакта. Несколько месяцев миссию возглавлял поверенный в делах Георгий Астахов.
По мнению ряда историков, Кремль на всякий случай хотел, чтобы рискованный политический зондаж проводил малоизвестный человек, а заодно усыплял бдительность Запада, делая вид, будто отношения с Германией находятся на низком уровне.
19 апреля во время банкета в берлинском отеле "Адлон" в честь 50-летия Гитлера Риббентроп уединился с японскими послами в Берлине и Риме Хироси Осимой и Тосио Сиратори и конфиденциально сообщил им, что "у фюрера остался единственный выход – нормализовать отношения с Москвой, чтобы сорвать планы Лондона и Парижа по созданию антигерманского фронта".
Сиратори отнесся к заявлению серьезно, зато Осима отмахнулся от него как от пустой болтовни, не веря в возможность сближения между "красными" и "коричневыми". До заключения пакта оставалось всего четыре месяца.
28 апреля Гитлер выступил в рейхстаге с программной речью, в которой обрушился на Польшу, потребовал от Лондона "с пониманием" относиться к интересам Германии, но СССР не упомянул ни единым словом.
3 мая Максим Литвинов был заменен на посту наркома иностранных дел Вячеславом Молотовым. Это был недвусмысленный сигнал.
В ту пору в СССР все решал один человек. Даже Молотова, второе лицо в стране, на Западе иронически называли his master's voice ("голос хозяина"), как в рекламе фирмы-производителя граммофонов Victor. Однако нарком, хотя и не определял политику, являлся знаковой фигурой. Литвинова знали как деятеля англо-французской ориентации и поборника Лиги Наций. К тому же немцев всегда раздражало его еврейское происхождение.
22 августа на совещании со военными Гитлер скажет: "Решающим было смещение Литвинова. Для меня это прозвучало как пушечный выстрел, объявивший об изменении отношения Москвы к западным странам".
Уже через два дня начались прямые советско-германские контакты. Во время рутинной встречи с заведующим восточноевропейской референтурой отдела экономической политики германского МИД Карлом Шнурре Астахов завел речь об отставке Литвинова и предрек некие изменения советской внешней политики при Молотове.
22 мая Риббентроп и министр иностранных дел Италии Чиано подписали договор о дружбе и союзе, названный "Стальным пактом". Советский Союз, обычно резко критиковавший любые шаги фашистской дипломатии, от комментариев воздержался.
20 мая Молотов впервые принял в своем новом качестве германского посла фон Шуленбурга и в ходе двухчасового разговора заявил, что "существуют предпосылки для радикального улучшения отношений". На вопрос Шуленбурга, как это осуществить практически, советский нарком ответил: "Мы оба об этом должны подумать…".
Думать предстояло в первую очередь немцам.
В течение следующих двух месяцев в Берлине продолжался неофициальный зондаж с участием Астахова, которого историк Василий Молодяков назвал "чернорабочим пакта", советского торгпреда Евгения Бабарина, а с германской стороны – заместителя Риббентропа Вайцзекера, Шнурре и приезжавшего из Москвы Шуленбурга.
Всякий раз поводом для встречи становился какой-нибудь мелкий текущий вопрос, но затем участники начинали "не для протокола" и "по моему личному мнению" высказываться об общем состоянии советско-германских отношений. Сделалось ясно, что обе стороны готовы поступиться идеологическими принципами. Вопрос был в цене, которую Германия согласилась бы уплатить за, как выразился впоследствии Молотов, "спокойную уверенность на Востоке".
18 июля Бабарин передал Шнурре проект торгового соглашения и перечень сырьевых товаров, которые СССР готов поставить Германии, практически совпадавший со "списком дефицита" генерала Томаса.
26 июля в берлинском ресторане "Эвест" состоялась встреча, которую впоследствии назовут исторической. Шнурре по поручению Риббентропа пригласил Астахова и Бабарина на дружеский ужин и впервые заговорил о возможности территориального раздела Европы.
"Мы готовы договориться по любым вопросам, дать любые гарантии, – заявил он. – Соглашение примет во внимание жизненные интересы обеих сторон. Во всем районе от Балтийского до Черного моря нет неразрешимых внешнеполитических проблем между нашими странами".
Шнурре особенно упирал на "общий элемент" в идеологии Германии и СССР – "противостояние западным демократиям".
Астахов ответил, что "политика восстановления дружеских отношений полностью соответствует жизненным интересам обеих стран".
С этого момента история понеслась вскачь. Немцев поджимало время: еще месяц-другой, и в Польше начнется осенняя распутица.
29 июля Вайцзекер направил Шуленбургу запись беседы в ресторане и инструкцию узнать у Молотова, насколько слова, сказанные за бокалом вина, соответствуют официальной политике Советского Союза. Через два дня он поторопил посла дополнительной телеграммой, в которой впервые появились слова: "Срочно. Секретно".
Вечером 2 августа во время очередной рутинной встречи с Астаховым Вайцзекер сообщил, что в соседней комнате "случайно" оказался Риббентроп, который хотел бы сказать несколько слов советскому представителю.
Рейхсминистр фактически дословно повторил формулировку Шнурре: "по всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться".
На следующий день Молотов принял Шуленбурга, который откровенно обещал "уважать жизненные интересы СССР в Прибалтийских странах". Нарком, как написал в своем отчете посол, "оставил свою обычную сдержанность и казался необычно открытым".
Контакты вступили в новую фазу. Берлин стремился вырвать у Москвы принципиальное согласие на союз, а детали обсудить потом. Молотов делал вид, что не понимает, отчего партнеры так торопятся – куда спешить, давайте подпишем торговое соглашение, посмотрим, как пойдет дело, а там, может быть, поговорим и про пакт о ненападении – и давал понять, что дело не двинется, пока СССР не получит конкретных обещаний.
Любопытно, что уже 12 августа Астахов сообщал Молотову, что в Берлине "вовсю гуляет версия о новой эре советско-германской дружбы", что можно заметить даже в разговорах с лавочниками и парикмахерами.
11 августа Молотов подтвердил заинтересованность в дальнейших "разговорах", которые желательно было бы вести в Москве. Через два дня Шнурре пригласил к себе Астахова и впервые заговорил о возможном приезде Риббентропа в СССР, добавив: "События идут очень быстрым темпом, и терять время нельзя".
14 августа в 22 часа 53 минуты Шуленбург получил по телеграфу пространное официальное послание Риббентропа, которое на следующий день зачитал вслух Молотову: "Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, не подлежащий изменению в течение 25 лет… период противостояния может закончиться раз и навсегда… капиталистические демократии Запада являются неумолимыми врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза…".
"Фюрер считает, что, принимая во внимание внешнюю обстановку, чреватую ежедневно возможностью серьезных событий, желательно быстрое и фундаментальное выяснение германо-русских отношений. Для этой цели я готов лично прилететь в Москву в любое время после пятницы 18 августа с полными полномочиями от фюрера".
Молотов снова заявил, что "вопрос должен быть обсужден более конкретно, чтобы в случае прибытия сюда имперского министра иностранных дел вопрос не свелся к обмену мнениями, а были приняты конкретные решения".
18 и 19 августа Шуленбург, понукаемый беспрестанными телеграммами и звонками из Берлина, пытался вновь добиться приема у Молотова. В наркомате либо никто не снимал трубку, либо отвечали второстепенные сотрудники, говорившие, что Молотов занят, и предлагавшие изложить им суть вопроса.
Наконец в 14:00 19 августа Молотов принял посла и, в ответ на просьбу назвать возможную дату визита Риббентропа, ответил, что ему "нечего добавить к сказанному".
Шуленбург, по его словам, чувствовавший, что "сердце у него вот-вот разорвется", вернулся в посольство и принялся составлять депешу в Берлин, но в 15:30 неожиданно позвонил Молотов и предложил встретиться еще раз через час.
Поспешно выйдя из-за стола навстречу гостю и приветливо улыбаясь, он объявил потрясенному послу, что Советское правительство пересмотрело свои взгляды и готово принять Риббентропа для подписания договора о ненападении 26 или 27 августа.
Историки единодушны в том, что советская позиция не могла измениться на 180 градусов без вмешательства Сталина, которое, очевидно, имело место между 14:30 и 15:30.
Названный Молотовым срок Гитлера не устроил, и он повысил ставки, обратившись к Сталину с личным посланием, в котором дал понять, что готов удовлетворить практически любые требования.
"Я принял проект договора о ненападении, переданный господином Молотовым, но считаю крайне необходимым прояснить некоторые вопросы […]. Сущность дополнительного протокола, столь желаемого Советским Союзом, можно согласовать в кратчайшее время, если ответственный немецкий представитель сможет лично прибыть в Москву для переговоров".
Фюрер не скрывал, для чего соглашение с СССР потребовалось ему так срочно.
"Напряжение между Германией и Польшей становится нетерпимым […]. Германия отныне полна решимости отстаивать интересы Рейха всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. По моему мнению, желательно, чтобы наши две страны установили новые отношения, не теряя времени".
"Поэтому я снова предлагаю, чтобы Вы приняли в Москве моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, в крайнем случае – в среду 23 августа. Рейхсминистр иностранных дел имеет полные полномочия составить и подписать пакт о ненападении, а также протокол к нему".
Посреди ночи с 20 на 21 августа Гитлер позвонил Герингу и сказал, что не может спать – так измучила его неопределенность.
Послание Гитлера было передано Шуленбургом Молотову в 15:00 21 августа. В 21:35 того же дня в Берлин поступил лаконичный ответ Сталина с согласием принять Риббентропа 23 августа. Никакие "протоколы" в нем, естественно, не упоминались.
Германское радио прервало вечернюю музыкальную передачу для экстренного сообщения.
22 августа Гитлер собрал генералов и объявил, что нападение на Польшу решено окончательно, призвав их вести войну "жестоко и без всякой жалости".
"Теперь Польша попала в то положение, в какое я хотел, чтобы она попала, – заявил он. – Единственное, чего я боюсь – чтобы какая-нибудь грязная свинья не влезла в последний момент с предложением посредничества".
Около полудня 23 августа два трехмоторных "Кондора" с Риббентропом и его свитой приземлились в Москве. Молотов встретил гостя в аэропорту и повез его в Кремль.
Сталин встретил рейхсминистра словами: "Мы хорошо поругали друг друга, не правда ли?".
В ходе трехчасовых переговоров германская делегация без споров согласилась со всеми требованиями хозяев. В советскую сферу влияния отходили почти половина Польши, Финляндия, Эстония, Латвия, Бессарабия и часть Литвы (остальную территорию Литвы СССР впоследствии выменяет у немцев на изначально причитавшийся ему кусок Польши).
Согласно записи беседы, чуть ли не половину времени стороны дружно поносили "лондонское Сити и английских лавочников".
После подписания документов начался банкет, продолжавшийся до 5 утра. Сталин предложил первый тост за здоровье Гитлера: "Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера".
Немцы гаркнули: "Хайль!", и Риббентроп тут же предложил выпить за здоровье Сталина. Потом пили по очереди за всех присутствующих, за пакт, за вечную дружбу, за немецкий народ. Риббентропу пришлось пить за еврея Кагановича, а Кагановичу – за Гитлера. Тост за советский народ поднять забыли.
Имеются свидетельства, что на следующий день обычно сдержанный Сталин в кругу своих радостно кричал: "Обманул! Обманул Гитлера!!!". Примерно в тот же час фюрер, заслушав отчет Риббентропа, обозвал Сталина "грязным азиатским вымогателем".
Из преамбулы договора о ненападении, который предполагалось опубликовать, по настоянию Сталина вычеркнули упоминание о "дружбе" – еще неизвестно было, как у немцев пойдут дела в Польше. До "дружбы" дошло 27-28 сентября, во время следующего визита Риббентропа. Новый документ так и назывался: "Договор о дружбе и границе".
К нему прилагались новые секретные протоколы, главный из которых гласил, что договаривающиеся стороны не допустят на контролируемых ими территориях "никакой польской агитации", и карта, которую, в отличие от пакта подписал не Молотов, а сам Сталин, причем его 58-сантиметровый росчерк, начавшись в Западной Белоруссии, пересек Украину и заехал в Румынию.
В советских кинотеатрах триумфально шел фильм "Трактористы" со знаменитой песней "Чужой земли мы не хотим ни пяди".
Молотов и через 40 лет лгал своему биографу Феликсу Чуеву, утверждая, что никаких тайных протоколов не было, хотя документы хранились в Особой папке политбюро, и об их существовании знали все советские лидеры от Хрущева до Горбачева.
Сама необходимость искать какие-то объяснения говорит о том, что дело было, как минимум, морально сомнительным
В дни подписания Мюнхенского соглашения еще могли быть иллюзии насчет того, что фюрер, каким бы он ни был, все-таки трезвомыслящий европейский политик, с которым можно достичь компромисса, и он будет держать слово. Гитлер клятвенно заверял, что его амбиции не простираются дальше присоединения к рейху территорий, населенных этническими немцами.
Действия Лондона и Парижа можно трактовать как трагическое, но добросовестное заблуждение – тем не менее, и их многие именуют не иначе, как "мюнхенским предательством".
Что же говорить о шаге Москвы, предпринятом уже после того, как Гитлер, вопреки договоренностям, достигнутым в Мюнхене, захватил остатки Чехословакии и немедленно принялся предъявлять претензии Польше – короче, показал себя во всей красе?
"Основная мысль марксистского учения – при конфликтах внутри человечества извлекать максимальную пользу для коммунизма. Капиталистический мир полон вопиющих мерзостей, которые могут быть уничтожены только каленым железом священной войны"
Из выступления Михаила Калинина на собрании аппарата Верховного Совета 20 мая 1941 г.
Официальные тезисы
Советская историческая наука (и та часть российской, которая следует в ее фарватере) предлагает четыре основных объяснения, а вернее, оправдания:
а) пакт позволил оттянуть войну (очевидно, подразумевается, что в противном случае, немцы, захватив Польшу, тут же без остановки пошли бы на Москву);
б) граница отодвинулась на 150-200 км к западу, что сыграло важную роль в отражении будущей агрессии;
в) СССР взял под защиту единокровных братьев украинцев и белорусов, спасая их от нацистской оккупации;
г) пакт предотвратил "антисоветский сговор" между Германией и Западом.
Первые два пункта возникли задним числом. До 22 июня 1941 года Сталин и его окружение ничего подобного не говорили. Они не рассматривали СССР как слабую обороняющуюся сторону и воевать на своей территории, хоть "старой", хоть вновь приобретенной, не собирались.
Гипотеза о германском нападении на СССР уже осенью 1939 года с военной точки зрения выглядит несерьезно.
Для агрессии против Польши немцы смогли собрать 62 дивизии, из которых около 20 были недоучены и недоукомплектованы, 2000 самолетов и 2800 танков, свыше 80% из которых составляли легкие танкетки. В то же время Климент Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями весной 1939 года сообщил, что Советский Союз способен выставить 136 дивизий, 9-10 тысяч танков, 5 тысяч самолетов.
А ведь вермахту требовалось еще Польшу разгромить, что, вопреки распространенному заблуждению, не было такой уж легкой задачей.
Как свидетельствует дипломатическая переписка, Берлин уже 3 сентября принялся понукать Москву нанести удар с востока как можно скорее.
Сталин тянул, не желая выглядеть в глазах мира агрессором.
Случайно или нет, но Красная армия пришла в движение через двое суток после того, как Риббентроп в послании от 15 сентября прозрачно намекнул на возможность создания в Западной Украине ОУНовского государства.
Выдвижение границы на запад летом 1941 года мало чем помогло Советскому Союзу, потому что эту территорию немцы заняли в первые же дни войны. При этом не учитывается, что, благодаря пакту, Германия продвинулась на восток в среднем на 300 км, и главное, приобрела общую границу с СССР, без чего нападение, тем более внезапное, было бы вообще невозможно.
"Крестовый поход против СССР" мог казаться вероятным Сталину, чье мировоззрение было сформировано марксистским учением о классовой борьбе как главной движущей силе истории, и к тому же подозрительному по натуре.
Однако неизвестно ни одной попытки Лондона и Парижа заключить с Гитлером союз. Чемберленовское "умиротворение" имело целью не "направить германскую агрессию на Восток", а убедить нацистского фюрера вообще отказаться от агрессии.
Как утверждал Риббентроп, он в бытность послом в Лондоне всячески уговаривал Британию присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, но "натолкнулся на полное непонимание со стороны [министра иностранных дел Энтони] Идена".
Можно не сомневаться, что лидеры Запада не любили большевиков и были бы рады, если бы этот кровавый и опасный для остального человечества режим прекратил существование.
После 20 лет беспрерывных разговоров о мировой революции и "земном шаре, опрокинутом на штыки", они, естественно, видели в Советском Союзе угрозу. Просачивавшиеся за кордон, хотя и не в полном объеме, сведения о методах "раскулачивания", голоде, пытках и расстрелах, принудительном труде, подавлении инакомыслия и культе личности не могли вызывать у людей в свободных странах ничего, кроме ужаса и омерзения.
Однако Лондон и Париж не стали бы потворствовать безмерному усилению другого столь же тиранического и агрессивного режима, в том числе за счет СССР.
Более или менее убедительно выглядит только тезис о защите украинцев и белорусов. Он и был представлен советской стороной в качестве причины вступления на польскую территорию, которое официально именовалось "освободительным походом". Кстати, Риббентроп через Шуленбурга выразил по этому поводу протест, сочтя подобное объяснение "антигерманским".
На самом деле, его можно было бы признать безупречным, если бы не то обстоятельство, что новая власть с сентября 1939-го по июнь 1941 года на территории с населением в 13,4 миллиона арестовала 107 тысяч и выслала в административном порядке около 400 тысяч человек.
Высокопоставленный чекист Павел Судоплатов, прибывший во Львов сразу после освобождения, писал в воспоминаниях: "Атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Процветал западный капиталистический образ жизни, оптовая и розничная торговля находились в руках частников, которых предстояло вскоре ликвидировать".
Вопрос о том, просили ли жители Львова заодно с защитой от Гитлера ликвидировать у них нормальную жизнь и достаток, остается риторическим.
"Польша, Румыния и всякие там Прибалтики, они у нас со счетов давным-давно сняты, этих господ мы в любое время при всех обстоятельствах сотрем в порошок!"
Из выступления Климента Ворошилова на заседании Главного военного совета в ноябре 1938 г.
Была ли альтернатива?
Теоретически, в истории и в жизни альтернатива есть всегда. Другой вопрос, насколько она вероятна в сложившихся обстоятельствах и с данными действующими лицами.
Весной и летом 1939 года Сталин мог бы пойти на альянс с западными демократиями. Тогда, вероятно, мировой войны не было бы. Но европейские границы остались бы неизменными, и всемирное торжество коммунизма отодвинулось бы в неопределенное будущее.
Судя по словам и делам Сталина, продолжительное мирное сосуществование в его планы не входило (само выражение появилось только после смерти "вождя", и Молотов находил его еретическим).
Не для того он, начиная с 1928 года, осуществил грандиозную военную программу, ради которой ограбил и закрепостил деревню, превратил миллионы соотечественников в рабов ГУЛАГа, продал за границу сокровища музеев и храмов.
В основе государственных решений, как известно, лежат интересы. Лондон и Париж были заинтересованы в сохранении статус-кво, Сталин и Гитлер – в том, чтобы взорвать его, хотя каждый для себя и на собственный лад.
В этом заключалась неизбежность как советско-германской дружбы, так и ее скорого конца.
"Советский народ не только умеет, но и, можно сказать, любит воевать!"
Из речи Ворошилова на XYIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г.