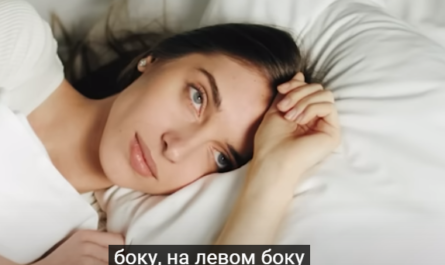Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лореляй.
Марина Цветаева. Германии. 1914
"Шварцвальда золотые дали"
История отношения Марины Цветаевой к Германии – это история любви, которая началась едва ли не с рождения поэтессы и закончилась незадолго до ее смерти. Германию, еще до того как Марина оказалась на немецкой земле, подарила ей мать Мария Александровна – немка по отцу, урожденная Мейн. «От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию. Просто — Музыку. Всю себя", – писала Марина в 1919 году в дневнике, который мы не раз будем цитировать. Немецкий был языком ее детства. "Первые языки: немецкий и русский, к семи годам — французский. Материнское чтение вслух и музыка", – это из автобиографии 1940 года, заметьте – немецкий язык на первом месте!

Марина (справа) и Анастасия Цветаевы. 1905 г.
Счастливая встреча с Германией произошла в 1904 году: двенадцатилетняя Марина и ее младшая сестра Ася уже два года переезжали вместе с больной чахоткой матерью с курорта на курорт, проводили зимы в европейских пансионах. Они уже многое повидали в Европе: и австрийский Тироль, и средиземноморские скалы в Нерви, близ Генуи, и Лозанну, и Женевское озеро, и Альпы… Везде у девочек появлялись новые друзья, каждый раз им было больно расставаться с морем, озером, горами, городами. «Страсть к каждой стране как к единственной» была у Марины с детства.

Мать Марины Цветаевой Мария Александровна Мейн
И вот очередное расставание – с Лозанной – ради Шварцвальда. Его целебный воздух должен вылечить больную Марию Александровну. В деревушке Лангаккерн (Langackern) близ Фрайбурга семья, наконец, собралась вместе. Даже отец, Иван Владимирович Цветаев, погруженный в заботы о будущем Музее изящных искусств в Москве, смог провести это лето с женой и дочками. Счастье длилось почти два месяца – с 19 июля по 13 сентября. Не могу не напомнить, что за 2 недели до того, как Цветаевы поселились в Лангаккерне, неподалеку, на шварцвальдском курорте Баденвайлер, умер от той же болезни, которой страдала Мария Александровна, Антон Павлович Чехов.

"Привет из Лангаккерна!"
Старая открытка с видом пансиона "Цум Энгель"
В отличие от Баденвайлера, известного в ту пору многим соотечественникам, Лангаккерн вовсе не был курортом – просто живописная деревня среди холмов и лесов. Несмотря на близость к Фрайбургу, это была настоящая шварцвальдская глубинка. Картины старого Лангаккерна сохранила великолепная память младшей сестры Анастасии: "Шварцвальдские дома – коричневые, как белый гриб и подберезовик, с крутой, низко спускающейся крышей, такого же цвета галерея обходила стены дома. Они были похожи на резные игрушки, рассыпанные по бокам дорог и холмам, у перекрестков, где возвышалось распятие. Шварцвальдские долины! Это была ожившая сказка Гримма!"

"Привет из Лангаккерна!"
Старая открытка с видом пансиона "Цум Энгель"
Сестрам сразу полюбилось все: сказочный лес, деревня, приветливое пристанище – пансион "Цум Энгель" с позолоченной фигурой ангела над входом. Дети хозяев пансиона, Марилэ и Карл, с первого дня стали друзьями Марины и Аси: "Марилэ, Карл. Дружба вспыхнула сразу. Карл всё время с нами, и Марилэ, как только не надо ей помогать матери, бежит к нам. Марилэ с Марусю или чуть выше, плотная, с тяжёлым, упрямым лбом, глаза серо-синие, пристальные. Лет ей тринадцать, старше Маруси. Карлу десять, как мне. Светлоголовый, весёлый." (Анастасия Цветаева. "Воспоминания")

"Шварцвальда золотые дали"
О страстной – иначе не скажешь – любви Марины к Шварцвальду мы узнаем из ее ранних стихов, дневников, прозы.
"Ты, кто муку видишь в каждом миге,
Приходи сюда, усталый брат!
Всё, что снилось, сбудется, как в книге –
Тёмный Шварцвальд сказками богат!"

"…еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи… Шварцвальдские холмы…"
Любимая книга этого лета – исторический роман Вильгельма Гауфа «Лихтенштейн. Романтическая сага из истории Вюртемберга» (1826). Ныне подзабытый, этот рыцарский роман в стиле Вальтера Скотта был в начале 20 века на пике популярности, к тому же действие его происходило в Шварцвальде! Мария Александровна читала дочерям роман вслух на немецком языке. Детское стихотворение Марины так и называется: "Как мы читали Lichtenstein":
Тишь и зной, везде синеют сливы,
Усыпительно жужжанье мух,
Мы в траве уселись, молчаливы,
Мама Lichtenstein читает вслух.
В пятнах губы, фартучек и платье,
Сливу руки нехотя берут.
Ярким золотом горит распятье
Там, внизу, где склон дороги крут.
Ульрих — мой герой, а Георг — Асин,
Каждый доблестью пленить сумел:
Герцог Ульрих так светло-несчастен,
Рыцарь Георг так влюбленно-смел!
Словно песня — милый голос мамы,
Волшебство творят её уста.
Ввысь уходят ели, стройно-прямы,
Там, на солнце, нежен лик Христа…
Мы лежим, от счастья молчаливы,
Замирает сладко детский дух.
Мы в траве, вокруг синеют сливы,
Мама Lichtenstein читает вслух".

Дорога к пансиону "Цум Энгель":
"Ярким золотом горит распятье там, внизу, где склон дороги крут"
В автобиографии 1940 года это незабвенное лето уместилось в две строчки, но и в сухом, с налетом казенности тексте Цветаева не удержалась – вспомнила Лихтенштейн! «Летом 1904 года еду с матерью в Германию, в Шварцвальд /…/ Пишу немецкие стихи. Самая любимая книга тех времен – «Лихтенштейн» В. Гауфа».
Осенняя разлука со Шварцвальдом, с "Ангелом", с Марилэ и Карлом стала для сестер настоящим горем. В стихотворении двенадцатилетней Марины "Отъезд" уже узнаются характерные цветаевские интонации.

"Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса…"
Отъезд
Повсюду листья желтые, вода
Прозрачно-синяя. Повсюду осень, осень!
Мы уезжаем. Боже, как всегда
Отъезд сердцам желанен и несносен!
Чуть вдалеке раздастся стук колес, –
Четыре вздрогнут детские фигуры.
Глаза Марилэ не глядят от слез,
Вздыхает Карл, как заговорщик, хмурый.
Мы к маме жмемся: «Ну зачем отъезд?
Здесь хорошо!» — «Ах, дети, вздохи лишни».
Прощайте, луг и придорожный крест,
Дорога в Хорбен… Вы, прощайте, вишни,
Что рвали мы в саду, и сеновал,
Где мы, от всех укрывшись, их съедали…
(Какой-то крик… Кто звал? Никто не звал!)
И вы, Шварцвальда золотые дали!
Марилэ пишет мне стишок в альбом,
Глаза в слезах, а буквы кривы-кривы!
Хлопочет мама; в платье голубом
Мелькает Ася с Карлом там, у ивы.
О, на крыльце последний шепот наш!
О, этот плач о промелькнувшем лете!
Какой-то шум. Приехал экипаж.
– «Скорей, скорей! Мы опоздаем, дети!»
– «Марилэ, друг, пиши мне!» Ах, не то!
Не это я сказать хочу! Но что же?
– «Надень берет!» — «Не раскрывай пальто!»
– «Садитесь, ну?» и папин голос строже.
Букет сует нам Асин кавалер,
Сует Марилэ плитку шоколада…
Последний миг… — «Nun, kann es losgehen, Herr?»
Погибло все. Нет, больше жить не надо!
Мы ехали. Осенний вечер блек.
Мы, как во сне, о чем-то говорили…
Прощай, наш Карл, шварцвальдский паренек!
Прощай, мой друг, шварцвальдская Марилэ!
Nun, kann es losgehen, Herr? – Ну, господин, можно отправляться?

"Дорога в Хорбен", которая упоминается в стихотворении "Отъезд"

"Луг и придорожный крест" близ пансиона "Цум Энгель"
Шварцвальд – детский потерянный рай – не одиножды возникает в цветаевской прозе и высказываниях зрелых лет. Это признание в любви: "Как я любила — с тоской любила! до безумия любила! — Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса — не говорю уже о деревне …" (Дневник, 1919). Это воспоминание: "Распятье на повороте, а дальше с шоссе влево, а дальше — уже совсем близко! — из-за сливовой и яблонной зелени, сначала гастхауз, а потом и сам Ангел, толстый, с крыльями, говорят — очень старый, но по виду совсем молодой, куда моложе нас! — совсем трехлетний, круглый любимый ангел над входом в дом, из которого нам навстречу фрау Виртин, а главное — Mарилэ и Карл, главное, для меня, — Марилэ, для Аси — Карл" ("Башня из плюща", 1933). Это сожаление о невозвратном: в 1938 году в Париже на вопрос Ирины Одоевцевой, действительно ли она рада будет возвратиться в Россию, Марина ответила: «Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство… В России теперь все чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая».

Современный Лангаккерн
Прежде чем покинуть вместе с семьей Цветаевых Шварцвальд, кинем взгляд на современный Лангаккерн – что изменилось за прошедшие сто с лишним лет? Из центра Фрайбурга до Лангаккерна можно сегодня доехать за полчаса, но он так и остался глубинкой. С удивительной быстротой город сменяется первозданными идиллическими пейзажами. Луга, леса, холмы, пасущиеся лошади, коровы с колокольчиками на шеях – все, как в воспоминаниях Марины: "Сначала старые дома, потом счастливые дома, глядящие в поля. Счастливые поля… Потом еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи… Шварцвальдские холмы…" ("Башня из плюща",1933).

"Шварцвальдские дома – коричневые, как белый гриб и подберезовик,
с крутой, низко спускающейся крышей…"
Правда, старинные усадьбы – с колодцами, распятиями, домами, опоясанными галереями, амбарами со свисающими до земли кровлями – соседствуют сегодня с новыми белыми домиками под красной черепицей. Гастхауз "Цум Энгель", увы, снесен в 2004 году. На его месте стоит прозаический гараж, украшенный яркой росписью с изображением снесенного гастхауза и рафаэлевских ангелочков. Судя по старинным открыткам, роспись выполнена весьма достоверно.

Лангаккерн. Современная роспись с изображением пансиона "Цум Энгель"
на доме, построенном на месте пансиона
А вот и придорожный крест на противоположной стороне шоссе, похоже, тот самый, из стихотворений и воспоминаний Марины: " Ярким золотом горит распятье/ Там, внизу, где склон дороги крут". Мимо этого распятия Цветаевы проехали 13 сентября 1904 года, направляясь во Фрайбург, где сестрам предстояло провести зиму в пансионе.

Фрайбург, дом на улице Вальштрассе 10, где находился пансион сестер Бринк

Мемориальная доска на улице Вальштрассе 10
Если в Лангаккерне не осталось никакой памяти о поэтессе, то на стене бывшего пансиона Паулины и Энни Бринк, улица Вальштрассе 10, висит мемориальная доска с надписью на немецком и русском языках: "В этом доме жила Марина Цветаева". Можно было бы добавить: училась, томилась, скучала, не могла дождаться выходных, когда сестры вырывались из казавшегося им тюрьмой пансиона и навещали мать. Мария Александровна жила неподалеку, в высокой мансарде (так лучше для больных легких) на улице Мариенштрассе 2. Анастасия вспоминает "уют маминой мансарды с окошком на зеленоватые струи реки". В маленькой комнате нашлось место для взятого напрокат пианино и для одного диванчика, на котором девочки по очереди ночевали с субботы на воскресенье. Этот дом на берегу реки Драйзам отлично сохранился, название улицы и номер дома не изменились.

Фрайбург, дом на улице Мариенштрассе 2.
Мария Александровна жила в одной из этих мансард
Жизнь сестер во Фрайбурге мало походила на шварцвальдскую вольницу, но и здесь они смогли найти свою сказку. Картинкой из книжки братьев Гримм казался им мостик Швабенторбрюкке со статуями рыцарей, с игрушечными островерхими башенками, покрытыми цветной черепицей. К мостику, по воспоминаниям Анастасии, сестры ходили с матерью гулять: "Втроем всходим на горбатый мост над маленькой зеленоватой рекой. По бокам моста – каменные рыцари". (Не отсюда ли любовь Марины к рыцарю Брунсвику на Карловом мосту в Праге?)

Мостик Швабенторбрюкке во Фрайбурге:
"горбатый мост над маленькой зеленоватой рекой"
Швабентор, Швабские ворота в двух шагах от скучной Вальштрассе, словно перенеслись в город из исторических романов, из того же любимого "Лихтенштейна". На стене воротной башни – роспись: прекрасный рыцарь, Святой Георгий с бело-красным щитом, разит змия. И милый мостик, и романтические Швабские ворота – умелая имитация старины, фантазия архитекторов начала 20 столетия на тему средневековой архитектуры. По настоящему древним был только нижний этаж ворот, уцелевший с 13 столетия. Основная часть башни надстроена в 1901 г., а роспись появилась и того позднее. Трудно сказать, знала ли об этом Марина, замечала ли внизу росписи дату "1903". "Святой Георгий во Фрайбурге на Швабентор" навсегда остался в ее памяти вместе с другими немецкими сокровищами детства.

Фрайбург. Швабентор (Швабские ворота)
А детство вдруг закончилось: в феврале 1905 года здоровье Марии Александровны ухудшилось, ей пришлось переехать в легочный санаторий на небольшом шварцвальдском курорте Санкт-Блазиен, который девочкам Цветаевым не приглянулся. Потом было печальное возвращение в Россию с безнадёжно больной матерью, ее смерть в Тарусе 5 июля 1906 года.
"Все бледней лазурный остров – детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!"
(1907-1910)

«Шварцвальдские долины! Это была ожившая сказка Гримма!»
Германия – мое безумье, Германия – моя любовь"
В Германию Марина снова попала в 1910 году, восемнадцатилетней. Опять немецкий пансион, на сей раз на востоке страны в семье пастора. Здесь сестры прожили лето, пока отец занимался в Дрездене делами будущего московского Музея изящных искусств. Девочки должны были освежить разговорный немецкий и овладеть с помощью фрау пасторши основами домоводства. Вот Маринин автопортрет той поры из дневниковых записей 1919 года: "Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, в семье пастора — курю, стриженые волосы, пятивершковые каблуки (Luftkurort [климатический курорт – М.А.], система д<окто>ра Ламана, — все местечко в сандалиях!) — хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, не отличаю свеклы от моркови (в семье пастора!) — всех оттолкновений не перечислишь! Что ж — отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, давали быть. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? Хоть косвенный взгляд один? Хоть умысел? Это страна свободы. Утверждаю".
Любовь Цветаевой к Германии не закончилась вместе с детством, она стала с годами более осознанной, зрелой, духовно наполненной, безоглядно-страстной. Эта любовь ни на толику не ослабела, когда Германия и Россия вступили в первое в 20-м столетии противостояние.
1 декабря 1914 года Цветаева пишет стихотворение "Германии" – вызывающе дерзкое признание в любви к воюющей против ее родины стране.
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь», –
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vаtеrlаnd[1],
Где все еще по Кенигсбергу
Проходит узколицый Кант,
Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке –
Geheimrat Goethe[2] по аллее
Проходит с тросточкой в руке.
Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, — когда, –
– От песенок твоих в восторге –
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor.
Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус,
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь.
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лореляй.

"Святой Георгий во Фрайбурге на Швабентор"
Упоением Германией, восторженным теоретизированием о немецком характере и немецкой культуре, восхищением немецким языком, литературой, всем немецким полны дневниковые записи 1919 года. Цветаева отождествляет себя с Германией, срастается с нею, стирает границы между этой страной и собой. "Моя страсть, моя родина, колыбель моей души!"
"Во мне много душ. Но главная моя душа — германская. Во мне много рек, но главная моя река — Рейн".
Германия словно по ней скроена: "Франция для меня легка, Россия — тяжела. Германия — по мне. /…/ Германия — точная оболочка моего духа, Германия — моя плоть: ее реки (Ströme!) — мои руки, ее рощи (Heine!) — мои волосы, она вся моя, и я вся — ее!"
"Мое вечное schwärmen [мечтать – М.А.]. В Германии это в порядке вещей, в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. В Германии я рядовой, любой".
"Мне, до какой-то страсти равнодушной к внешнему, в Германии просторно".
"Германия — тиски для тел и Елисейские поля — для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски".
Поэтесса восстает против мифа об упорядоченно-скучном, прозаически-ограниченном немецком характере. За размеренностью быта она прозревает безмерность духа.
"Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас".
"О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума сшедших на высшем разуме — духе".
В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощенность) внешней жизни, — то, чего нет и никогда не было в России. Быт они скрутили в бараний рог — тем, что всецело ему подчинились".
Как чудом, упивается Цветаева немецким языком. "Urkraft [первозданная сила – М.А.], — не весь ли просыпающийся Хаос! Эта приставка: Ur! Urquelle, Urkunde, Urzeit, Urmacht."
"Ausflug. Вы только вслушайтесь: вылет из… (города, комнаты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет ins Grüne [на природу – М.А.], ежечасный — ins Blaue, в голубизну". "Treue [преданность – М.А.] — как это звучит!"
Германия для Цветаевой – светоч культуры, ее средоточие, ее проводник. "Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, единовременно." "Музыку я определенно чувствую Германией (как любовность — Францией, тоску — Россией). Есть такая страна — музыка, жители — германцы". "Я, может быть, дикость скажу, но для меня Германия — продолженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме германских, того нектара, той амброзии не приму".
В воображаемом диалоге о минувшей Первой мировой войне Цветаева, как щит, выставляет два слова – Гёте и Рейн, высшие символы немецкого духа.
— "Что вы любите в Германии?
— Гёте и Рейн.
— Ну, а современную Германию?
— Страстно.
— Как, несмотря на…
— Не только не смотря — не видя! /…/
— Что же вы видите?
— Гётевский лоб над тысячелетьями.
— Что же вы слышите?
— Рокот Рейна сквозь тысячелетия.
— Но это вы о прошлом!
— О будущем!
Оправдание прошлого и надежда на будущее для Цветаевой в том, что "Гёте и Рейн еще не свершились".
"О, дева всех румянее"
Эта Германия Гёте и Канта, Гейне и Гауфа в эмиграции, похоже, не вспоминалась, словно, утратив Россию, Цветаева лишилась и своей "внутренней" Германии. То, что поэтесса в 1922 году, на пути к мужу в Прагу, прожила 11 недель в Берлине, мало что значило для ее души. Литературная жизнь "русского Берлина", встречи с Ильей Эренбургом, Владиславом Ходасевичем, Марком Слонимом, переписка с Борисом Пастернаком занимали ее куда больше, чем собственно Берлин.
В 1939 году в Париже повторилось пережитое в 1914-м. Германия снова воюет, и снова Цветаева обращается к ней в стихах. Стихотворение из цикла "Стихи к Чехии" написано 10 апреля 1939 года, через месяц после оккупации Чехословакии гитлеровской армией. Название все то же – "Германии", смысл – противоположный: в 1914 году – защита, в 1939-м – приговор.
О, дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.
Пред чешскою крестьянкою —
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи ее надежд?
Пред горестью безмерною
Сей маленькой страны,
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??
О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь! /…/
Не будем проводить прямых аналогий, но разве не сероглазая Марилэ из лесов Шварцвальда видится в этой "деве всех румянее среди зеленых гор"? Разве нет среди этих Германов – "Германии сынов" светловолосого шварвальдского паренька Карла? Цветаева отрекается от всего, что прежде было ей дорого, – от сказок, от романтизма ("астральная душа"). Она позорит, предостерегает, оплакивает Германию – "сгоришь!". Ее любовь к этой стране растоптана, словно колосья чешской ржи под немецкими танками.
Почти одновременно с этим стихотворением, между 15 марта (днем, когда личным указом Гитлера Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии) и 11 мая, для цикла "Стихи к Чехии" написаны и другие строки:
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз — по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
Этот "плач гнева и любви" часто цитируют, когда речь идет о самоубийстве Цветаевой. Между этим стихотворением и августом 1941-го пройдет более двух лет, но путь, закончившийся петлей в Елабуге, уже определен: "Отказываюсь — быть. В Бедламе нелюдей отказываюсь — жить". В трагическом выборе поэтессы утрата Германии, "колыбели души", сыграла свою роль. Это была часть – конечно, не самая значительная – но все же заметная часть груза, который Марина Цветаева устала нести.
Фото автора