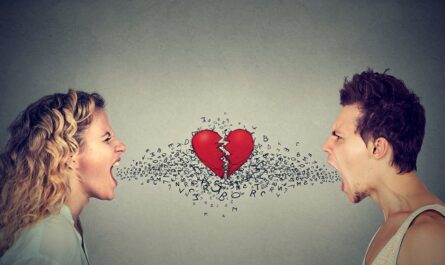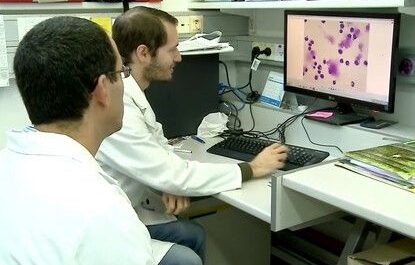Большая Ложь пришла на нашу землю.
Она заполнила города, и поселки, и рухнувшие под гнетом бездарной власти деревни. Она заполнила навсегда несозревшие души и скромные по насыщенности свободными знаниями мозги, она стала неотличима для населения большой страны от того, что это население могло бы, но не захотело увидеть вокруг. Словно путеводный луч, словно приводной радиомаяк, Большая Ложь всегда ведет в пустоту мертвой жизни.

Мой папа Михаил Рост (крайний слева) с однополчанами на фронте под Москвой
Большая Ложь была содержанием убогого существования населения, готового во имя нее есть отечественный концентрат кваса, грызть отечественные брикеты сухого химического киселя и плакать от умиления над родными березками и осинами, не желая знать, что эти деревья растут с удовольствием и в других местах мира. Она рядилась в единственный выбор, а точнее, в отсутствие выбора, столь привычного и родного, что ее мало кто хотел распознать из опасения расстаться с ней и оказаться свободным от нее в этом мире.
Лишь небольшая часть видела Большую Ложь, осознавала себя самодеятельными людьми, желающими видеть себя равными среди достойных, говорила понятные родному языку слова, хранила печальную память и надеялась быть понятой, а не понятной. Это меньшинство, вооруженное не ракетами, не мифом о национальной исключительности, не темной верой в божество, управляющее им (а не в Бога), — и было народом.
И ему не нужно было расширять границы, растекаясь в тонкий слой грязи по большой поверхности, но возвышать свое понимание до уровня достижений мира, углублять любовь к тому, что достойно любви на родине, хранить, терпеть и надеяться.
Так народ сохраняет себя в Большой Лжи — нерастворимая русская нация живой и чистой воды в мутной суспензии, самопровозгласившей себя современным российским этносом.
Народ защищает то, что у него есть: самостоятельность, достоинство, язык, национальную культуру и самобытность, способность учиться у соседей, терпеть их.
Население защищает то, чего у него нет: исключительность, национальное превосходство, патриотизм, свободу от ограничений. Оно подвержено мракобесию, послушанию сильному, гордыне восприятия веры как инструмента, дающего мифическое право преимущества, словно вера избрала его своим единственным выразителем. Население косно, лениво, завистливо. Население примет завоевательную или любую другую войну на чужой территории, ибо ему кажется, что она возвышает дух и освобождает от усердия труда, хотя труд — единственный способ жить лучше.
Иногда я думаю, что русский народ придуман великими нашими писателями XIX века от совестливости и чувства неловкости за свою удачную жизнь. Их немного, этих народных образов. Так и народа во все времена было меньшинство по сравнению с населением.
На фоне темного наполнения страны высвечивались ясные личности. Равные равным. Из думающего меньшинства народа родилась интеллигенция, из меньшинства интеллигенции — небезразличные люди…
***
Мой отец до Второй мировой войны был актером. Хорошим, говорят, актером. В Киевском детском театре, что был на одной из самых красивых улиц — Николаевской. Там же был цирк Крутикова, в котором он работал до театра. Маму увезли в роддом из гримуборной, где жили временно родители, а меня привезли уже в комнату на Тарасовскую, где мы прожили два года. Потом наступила война.
У отца была бронь, и он мог помогать родине, выступая во фронтовых бригадах, что тоже было необходимо фронту, но 27 июня он добровольцем пошел на войну. Он вступил перед боем в партию и, поскольку был грамотным мужчиной, скоро стал политруком роты. Под Киевом он кричал: «Вперед!», увлекая солдат и размахивая пистолетом, как на снимке Альперта. Политруки, пехотинцы и расчеты противотанковых «сорокапяток» долго не жили, но ему повезло: его ранило, он отлежался в госпитале и вернулся на передовую. Теперь она была на подступах к Москве. В районе Ржева ему повезло еще раз: его ранило тяжело, и его с осколком в горле, легком и с разрушенным тазом успели эвакуировать до того момента, когда наши войска подо Ржевом попали в смертельный котел.
Год он пролежал в гипсе, и впервые я запомнил худого человека на костылях, когда ему разрешили вставать. На фронт он больше не вернулся. И вспоминать о войне не любил. Орденами гордился, и был однажды унижен и оскорблен, когда воры, проникнув в нашу комнату и не найдя ничего ценного, украли его фронтовые награды.
Со своими товарищами — фронтовиком-добровольцем Виктором Некрасовым и режиссером Борисом Барнетом — они ходили в павильон «Петушок» («Пивник»), справа от главного входа на стадион «Динамо», и там выпивали. Крепко. Я слушал их разговоры о войне и о мире — ничего не понимая и волнуясь лишь о том, чтобы отец на костылях добрался до дому. Он добирался.
Дома нас ждала мама, которая, увезя меня в эвакуацию, работала на Урале, на лесозаготовках и была при этом красавицей. Одной из знаменитых киевских красавиц, о которых стоило бы написать подробнее. Она дождалась отца, выходила его, и была счастлива, что он жив. К этому времени ей было всего 33 года.
Зачем отец пошел на войну? Ну не для того же, чтобы я, его сын, мог выйти во двор и без смущения смотреть в глаза тем, у кого отцы не вернулись. Тяжелый инвалид засчитывался в актив.
Зачем отец пошел на войну? Он любил маму, меня, Киев, работу в театре, русский и украинский языки, на которых говорил одинаково хорошо… То есть он любил родину.
Не знаю, какими словами он поднимал малограмотных хлопцев в атаку. Он знал про современную историю столько, сколько должен был знать актер. Дед сгинул в 37-м, кругом враги, внутри враги, родную землю надо защищать. От прошлой, мирной жизни в семье остались воспоминания и несколько фотографий, захваченных второпях. Казалось, Киев покидали ненадолго. На одной из уцелевших карточек моей юной мамы, снятой на фоне колоннады стадиона «Динамо» (теперь известной по боям на улице Грушевского), была половина оборвана.
Кто там был опасный для семьи настолько, чтобы его исключить из жизни? Может быть, ранний мамин ухажер?.. Я гадал, пока мой двоюродный брат Миша не дал мне такую же, но целую фотографию.
Не было там никого, кто компрометировал бы маму, там было свидетельство, компрометирующее власть.
Над колоннами была надпись: «Стадион «Динамо» им. М.I. Єжова» (Николая Ивановича Ежова)! Злобный карлик, погубивший тысячи невинных душ, был стерт из истории не только в учебниках, но и в семьях. Между тем страх не отпускал людей. Но современники старого страха знали его разрушительную силу. И они уже не любили свой страх. Они боялись его. У них, казалось, была прививка от привязанности к нему — мучения и смерти близких невинных людей.
Сегодняшнее население, падкое на мифы о чужой, а значит, и своей жизни, славит Сталина, ГКЧП и нынешнего президента. Оно привержено имени его как легенде непрожитой ими судьбы.
Зачем отец пошел на войну? Зачем на войну пошли другие советские мужчины и женщины? И те, кого призвали, и те, кто вызвался сам?
Я писал о русском рядовом солдате войны, за четыре года получившем четыре медали, об Алексее Богданове, в сорок один год призванном из-под Архангельска на фронт освобождать Родину и потерявшем убитыми и умершими за это время 11 детей. И про десятерых братьев Лысенко из украинского села Бровахи, исправно воевавших и живыми вернувшихся с войны. И про фронтового разведчика Цыганова, в 17 лет пошедшего под Москвой на передовую и закончившего войну своей подписью на Рейхстаге. И про пекаря блокадного Ленинграда Горохову; и про хлеборобов войны — 16-летних пензенских девчонок, кормивших страну и армию. Я писал про живых и погибших — потому что это было и мое время — ребенка войны, не знавшего, что бывает другое состояние мира. Я писал в надежде, что в моей стране всегда будут расти дети, для которых естественное состояние — мир.
И я знал, за что они тогда воевали. Многие из павших могли бы жить. Если бы не бездарное командование, если бы не тотальная ложь (сродни сегодняшней), если бы не одна из самых бесчеловечных палаческих систем, созданная против своего народа и победившая его.
Они могли бы жить единственную свою Богом данную жизнь. Но миллионы этих каждых жизней закопаны в Россию, в Украину, в Белоруссию… И в Европу тоже закопаны они.
Забыты правдивые судьбы, а ложь живет. Наверное, и она сегодня называется патриотизмом.
За что сегодня воюют и гибнут наши сыновья, мужья наших дочерей и отцы наших внуков? Разве полчища захватчиков посягают на нашу землю? Разве реальна угроза российской государственности? Разве опасны наши соседи и ближайшие родственники для наших домов, детей, женщин?
Мы за кого воюем, кого обороняем?
Непомерное тщеславие водителей страны, желающих померяться силой со всем миром?
Ради этого наших детей по-воровски, без воинских почестей и салюта печали бросают в землю и убирают с могил имена.
Думайте!
Военные преступления, как старая фотография, проявляются на свету не сразу, но время — серьезный проявитель и закрепитель — на века. А пока сегодня в стране инерция агрессивного мышления важнее избавления от нее. Государственной идеей стала вражда. Проявление свободы мысли и критической оценки неправых и опасных (для России, Украины и мира) событий с бездумным ожесточением воспринимаются большинством населения, которому веками христианство прививало заповедь: «Возлюби ближнего…»
«Никого не люби!» — новая государственная религия.
А я люблю! Люблю отторгнутых нашими правителями Украину и Грузию самых близких наших родственников, их культуру, песни, поэзию, язык. Я люблю своих друзей в Болотне, Бровахах, Вакири, Телави, Киеве, Тбилиси, Одессе… Я люблю их, и никто не отберет у меня эту любовь.
Присоединяйтесь!