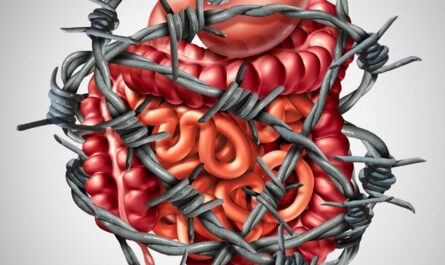Лина Городацкая
Стандартный
Время, столкнувшись с памятью,
узнает о своем бесправии.
И. Бродский
Беззаботность — это состояние, в котором находишься, когда нет забот. Забот нет, когда не о ком заботиться. В беззаботность не прискачешь на лихом боевом коне с остекленевшим от усталости взглядом, а вплывёшь лёгким стилем, именуемым в народе «собачьим». Те, кто в автономии Беззаботность уже отплыли далеко от зелёного берега, как правило, лежат на спине, погрузив уши в воду. Над ними солнце, и им хорошо. А остальные неторопливо очерчивают циркулем своего тела круги, вытянув старательно шею и отсчитывая метры водного пространства.
В конце концов, беззаботность — это привлекательное состояние. Можно лежать целый день и никуда не спешить. Не торопясь, думать о себе и смысле жизни. Но тогда какой у жизни смысл?
Лично Ольга Евсеевна в беззаботность не вплыла (она и плавать не умеет), а влетела на голубом лайнере авиакомпании «Эль-Аль», приземлившемся в приторно-тягучий, похожий на сахарную вату зной израильского августовского полудня.
До этого незабываемого дня, свернувшегося от жары в засохшие виноградные листья, проработала Ольга Евсеевна пять лет после выхода на пенсию в отделе экономических обоснований, соседнем с её родным сметным отделом.
Сметчики проводили её на заслуженный отдых, дав понять, что заслужила она его сполна. А экономисты сделали на полставки этот «заслуженный отдых» активным. Так что не почувствовала себя Ольга Евсеевна пенсионеркой.
Не уселась со спицами и клубком в кресле, не получила постоянную прописку на деревянной скамье, украшенной изысканными народными изречениями, вырезанными дворовыми умельцами.
Она спешила, как в молодости. Всё успеть. Ничего не забыть. Закончить годовой отчёт. Помочь дочери. Понянчить внуков. Дочитать интересную книгу. Поехать на кладбище…
На кладбище, обрамлённый трепещущими от любого ветра калачиками, под чёрным гранитом лежал её муж Михаил. И улыбался на вклеенном фото. И от фотографии этой, от улыбки белозубо радующейся жизни, не могла уйти Ольга Евсеевна.
Это она, видя растерянность дочери и нерешительность зятя, сама организовала похороны мужу. Чтобы всё было, как он бы захотел: и почти новый твидовый костюм, и отглаженная рубашка, и третья часть Второй фортепианной сонаты Шопена в сопровождении сентябрьского дождя, неторопливо отбивавшего свой такт на траурных духовых инструментах.
Родственников Михаила ждать было неоткуда. Их всех, как одного, родных, двоюродных и троюродных, собрал расстрельный ров на окраине города Славута. И молодые сосны давно выросли над засыпанным рвом. Слава Богу, что не футбольный стадион.
Была большая семья Канторов, а остался один Миша. Кантором не стал, потому, как петь умел, лишь весело фальшивя. А стал фотографом, одним из лучших в городе, с полётом фантазии и всегда удачным её приземлением. Заранее занимали молодожёны очередь в ателье, где работал Миша Кантор, способный неуверенные, напряжённые, бесцветные лица осветить улыбкой расцветающего счастья. То ли рука у Миши была лёгкая, то ли глаз меткий, то ли везение ему было суждено в работе, но считалось в районе, что молодожёны, которых фотографировал именно Миша, реже посещают отдел регистрации разводов, названный в народе отделом бракованных браков.
Когда Миша Кантор неожиданно умер, вечером в субботу, отщёлкав всех счастливых женихов и невест, и не дойдя до дома своего всего один квартал, то оказался он великим фотографом без собственных фотографий, тривиальным сапожником без сапог.
Вот на фото ещё совсем молодая Ольга стоит с новорождённой Милочкой, вот Мила на выпускном вечере в первом нарядном взрослом платье, словно только распустившаяся ромашка. Вот внук Юрочка под ёлкой, в матросской бескозырке и смешной полосатой тельняшке, а вот беззубое конопатое личико младшей внучки Наташки. Множество фотографий сложено в семейном альбоме и редко-редко среди них мелькнёт лицо Миши, его широкие брови, чуть ироничный прищуренный взгляд, фронтовой шрам, становившийся похожим на веточку дерева, когда его перерезали морщины лба.
И всё-таки Ольга Евсеевна подобрала фото для памятника, вырезала его портрет с какого-то случайного группового снимка, и был на нём Миша таким, каким хотела запомнить его она.
Многие годы казалось Ольге Евсеевне странным, что вышла замуж она за Мишу назло соседу, демобилизованному капитану Саше Арончикову и назло родителям своим, мечтавшим выдать её замуж за Сашу. «Не буду я Арончиковой, и всё!» — упрямо сказала она родителям, не зная, как объяснить им свой отказ от запрограммированного для неё будущего.
Спустя годы, когда Саша спился и попал в тюрьму, родители Ольги смотрели на неё чуть ли не с благоговением, как на Любавичского ребе смотрела его паства. «Чур, чур, чтобы и в дальнейшем наш дом миновали такие люди», — как бы невзначай роняла суеверная Ольгина мама, если вдруг вспоминала о Саше. А Ольга иногда думала, что согласись она тогда выйти замуж за Сашу, может, и не напился бы бывший капитан Арончиков, не избил в летнем кинотеатре под музыку из «Серенады Солнечной долины» до полусмерти какого-то шутника и не засел на пятилетку в тюрьму. Но он весь, красивый и неестественно томный, был чужд Ольге, и не зная, как себя избавить от его ухаживаний в коридоре их коммунальной квартиры, не раздумывая, вышла Ольга за улыбнувшегося ей Мишу Кантора с двумя шрамами после ранения — змейками, пересёкшими его высокий лоб.
Она прожила с ним день в день — тридцать незаметно пробежавших лет. И только, когда высадила над его могилой семена калачиков, которые всегда поливал Миша на их балконе, когда принялись калачики эти, и увидела Ольга Евсеевна их буйный и радостный цвет жизни, то поняла она, что любила Мишу Кантора с того дня, когда, перепутав количество звонков, позвонил в дверь их коммуналки чужой парень с уродливым лбом, а она открыла ему эту дверь…
Теперь, проживая в автономии Беззаботность, Ольга Евсеевна часто думала о том времени. И единственное, о чём грустила она, были засохшие калачики на могиле мужа.
Странно это или закономерно, а место жительства воспринимала Ольга Евсеевна как символ. По городу, улице или привычным пейзажам не скучала, понимая, что там, где есть дом с крышей, — можно жить. Лишь бы рядом были те, кого ты любишь. Не фальшивила она ни перед собой, ни перед людьми, разыгрывая ностальгию. Разве что калачики, да Мишино поблёкшее фото на чёрном граните… Но об этом ведь не расскажешь…
С утра позвонила Наташа и пообещала забежать после уроков. Ольга Евсеевна воодушевлённо взялась за блинчики. Они получились круглые, с легко угадываемой золотистой корочкой, и монументальной победной горкой вознеслись над тарелкой. А вспомнилось Ольге Евсеевне, что любит Наташа блинчики с яблоками. «Пойду в овощной магазин, — решила она, — только приберу сначала».
Наташе скоро исполнится восемнадцать, она заканчивает школу, учит психологию. Серьёзная, вдумчивая девочка. Ольге Евсеевне спокойно думать о ней.
А вот Юрочка, который третий год служит в армии, неожиданно замкнулся. Приходит редко, разговаривает мало. На вопросы чаще пожимает плечами, отвечая таким образом: «Не знаю». Может, в армии их так учат — быть скрытными… А Ольга Евсеевна, не признаваясь в этом ни себе, ни другим любит его больше…
Нет, не может она сказать, что любит его больше остальных членов семьи. Но «любить» по-русски означает — жалеть. Во всем облике Юры чувствуется бабушке глубокая душевная незащищённость. И жалеет она внука больше других, с постоянным напарником — автоматом «Узиком», прозванным так Наташкой, с колючим взглядом из-под лохматых бровей, которые он недовольно приглаживает. Брови эти достались ему по наследству от деда, и, глядя на Юрочку, Ольга Евсеевна всегда с улыбкой вспоминает мужа. Их общие молодые годы…
А если сегодня придёт и Юрочка? Наташа говорила, что ему полагается увольнительная на конец недели. И любит её внук блинчики с творогом и изюмом. Значит, нужно не забыть купить изюм. Он точно обрадуется.
Себя Ольга Евсеевна едой не балует. Она рассчитала как бывшая сметчица свой бюджет пенсионера-одиночки и строго старается обитать внутри его границ. Во всяком случае, с тех пор, как живёт одна. Это в прошлые социалистические времена были хоть и не толстые, но сберегательные книжки, обещавшие стать подспорьем на чёрный день.
Выдав замуж Милочку, каждый месяц откладывали Ольга Евсеевна и Миша, чтобы к старости не чувствовать себя обузой. Да только Миша не дожил до старости, а чёрный день Ольги Евсеевны в бывшей советской жизни так и не наступил. Наступил день вылета в автономию Беззаботность, и сохранившаяся неконвертируемая наличность превратилась в кожаные куртки для всей семьи, масляные обогреватели, шерстяные пледы и прочие дефицитные промышленные товары, о которых в письмах писалось: «Нужно брать».
Чёрный день наступил через пять лет после приезда, когда Мила и Аркадий собрались покупать квартиру. Мила к тому времени дважды провалила экзамен на подтверждение диплома врача. С покрасневшими глазами и вытянувшимся носом она сказала, что сделает перерыв в учёбе. Аркадий нервно сорвался и ответил, что, по-видимому, не видать ей «ришайона»*, как ему, Аркадию, не взобраться на гору Эверест, что при девяностокилограммовой комплекции Милиного мужа было вполне обоснованно, но звучало оскорбительно.
Ольга Евсеевна, родившаяся в день восстания декабристов, тоже по-своему была борцом, а слова зятя никак не увязывались с её представлениями о справедливости. О чём она не преминула сообщить ему. Все предыдущие годы в отношениях с Аркадием соблюдала Ольга Евсеевна границы вежливой дистанции. Когда спрашивали, довольна ли она зятем, то непременно отвечала: «Я за него замуж не выходила. Лишь бы дочка была довольна». Так что мнения своего обычно Ольга Евсеевна не высказывала.
А в тот день сорвалась, подступили волны тахикардии, давно не мучавшей её. И к Аркадию, очевидно, тоже подступили какие-то волны, потому что, не повышая голоса, оскорбил он Ольгу Евсеевну, грубо, по-хамски. Мила плакала, Ольга Евсеевна дрожащими руками складывала чемодан. А когда сложила, мечтая хлопнуть дверью, то поняла вдруг, что уходить ей совсем некуда и что за дверью их съёмной квартиры ждёт Ольгу Евсеевну пропасть именуемая Бездомностью.
Потом в доме было объявлено перемирие, но когда Аркадий, наконец, собрался приобретать собственное жилье, он сказал, что купит квартиру только по средствам, чтобы жить в ней своей семьёй, отделяя, таким образом, не членов своей семьи. Кроме того, квартира по средствам находилась на четвёртом этаже старого дома. Аркадий пообещал сбросить десяток килограмм, тренируясь на лестничных подъёмах и спусках. Но Ольга Евсеевна к тому времени была на учёте у кардиолога, и стало ясно, что ей такие тренировки не под силу. Мила сникла, неудачи обесцветили её когда-то яркое эмоциональное лицо. Черепашьим жестом она втянула плечи и растерянно спросила: «А как же мама?»
Ольга Евсеевна поселилась в доме для пенсионеров — простом и гениальном изобретении его хозяина, который приспособил не нашедшие применения маленькие учреждения под прибыльные квартирыдля пожилых новых репатриантов. В комнате помещалась стандартная мебель первой необходимости, а метровый коридор-«аппендикс» заменял кухню, где хватило места для крошечной плиты. Но желающих поселиться в «пенсионном» доме было предостаточно, и Ольге Евсеевне досталась комната на последнем, шестом этаже.
— Считайте, что вам повезло. И плата здесь по карману, — на ломаном русском языке сказала яркая апельсиновая девица, выдавшая ей ключ после заключения договора. Бизнес — дело семейное, и она оказалась внучкой хозяина.
— Почти, по карману, — поправила Ольга Евсеевна.
Но девица не отреагировала и продолжила:
— И жить здесь можно, сколько хотите. И тихо вам здесь будет. И лифт всегда работает.
Именно к тишине Ольга Евсеевна привыкла не сразу.
Особенно днём, когда перестала ждать из школы Юру и Наташу и думать, чем накормить их в обед. Мила звонила каждый вечер, внуки приходили раз в неделю. Длинный автобусный маршрут отделил их, раньше весело шумящих в соседней комнате.
Став обладательницей избытка свободного времени, Ольга Евсеевна отправилась в ульпан. Но иврит остался для неё таинственным языком, звучащим как волшебное слово «АБРАКАДАБРА», которым в детстве пугал её старший брат. Так и не постигнув его таинство, ульпан она оставила. И стала много читать, благо, библиотека с замечательным русским фондом оказалась рядом с домом. За книгой время пробегало быстрей. Но неожиданно поднялось глазное давление, и окулист запретил ей долгое чтение.
Теперь она слушала радио и думала. Думать запретить не может никто… О Миле, детях, о калачиках, которые некому полить, о себе, свободной от каких-либо обязательств и прописавшейся навсегда в автономии Беззаботность.
Потихоньку Ольга Евсеевна создала свой быт. Юрочка помог повесить занавески и репродукции любимых картин Левитана. Получилось скромно, но почти уютно. И жизнь потекла, как угловатая лодочка, без пробоин, но и без мотора, полагаясь на течение реки.
На диванную подушку днём она высаживала плюшевого медведя. Старомодно это или провинциально, Ольга Евсеевна не задумывалась. Просто любила она эту старую игрушку, наверное, даже больше, чем дети. Дочка выросла, потом — внуки, а он в её глазах оставался таким же, каким купил его муж много лет назад, на день рождения Милочки. Красивая игрушка в те годы была большой редкостью.
Милочка зажмурилась, широко раскрыла глаза и опять зажмурилась, словно не веря в такое счастье. Как она целовала отца, потом — маму, кружилась с медведем в танце, проверяла, как удивительно утробно он урчит, посвящала ему какие-то первые стихи, подражание Агнии Барто.
Юра и Наташа уже не относились к медведю с таким трепетом. Да и ассортимент игрушек в магазинах увеличился.
Юра в детстве всё пытался определить, откуда Мишка умеет урчать, пока пластмассовый «пищик» в животе не сломался, а Наташа однажды выкупала его в молоке, после чего пришлось сдать Мишку в химчистку.
Но Ольга Евсеевна была привязана к медведю. Сперва она берегла его как красивую игрушку, потом как память о прошлом и даже как связь поколений в их доме. Закрутившись перед вылетом в Израиль, вспомнила о нём Ольга Евсеевна в последний день сборов. Вспомнила улыбающееся лицо мужа, возбуждённую радость дочки, когда Мишка в картонной коробке переступил порог их квартиры. И не раздумывая, пополнила им свою пятикилограммовую ручную кладь.
В аэропорту румяный украинский мальчик-таможенник долго крутил в руках медведя.
— А что это? — наконец спросил он.
— Игрушка, — мягко ответила Ольга Евсеевна, зная, что с таможенниками нужно разговаривать предупредительно.
— Это я сам вижу, — недоумевающее ответил круглолицый мальчик, — только зачем она вам? Странно…
Ольга Евсеевна пожала плечами. А таможенник, приученный ко всему странному относиться со всей серьёзностью, взял острую спицу. Ольга Евсеевна не успела вздрогнуть, а спица с готовностью вонзилась в Мишкино плюшевое тело. Ольга Евсеевна отвернулась, чтобы не видеть смешную и стыдную экзекуцию.
— Возьмите вашего медведя, — услышала она голос.
— Ничего не нашли? — поинтересовалась она.
— Нет, — очень серьёзно ответил юный таможенник, — но такие игрушки легко приспособить для перевоза всякой нелегальщины.
Мишка не понял, что его терзали. Истерзанно чувствовала себя его хозяйка. И теперь, спустя много лет, она бледнела, когда вспоминала прохождение таможни в аэропорту.
Сейчас он сидел на диванной подушке. Большой чёрный медведь с красным лоскутиком вместо рта и глазами-пуговицами. Обычная игрушка, брат-близнец из тысячной партии стандартных близнецов. И в то же время он был необыкновенным медведем. Потому что лоскуток его рта умел кривиться, когда его хозяйке было плохо, и улыбаться, когда у неё было хорошее настроение.
Теперь, на старости лет, её с Мишкой связывало одиночество. Целый день Ольга Евсеевна проводила с ним дома и привыкла, как к живому существу.
Правда, однажды внуки подарили щенка, который должен был её развлекать, а в перспективе даже носить тапки и газеты. Но выяснилось, что это — сущий блеф, потому что заботы об уходе за щенком оказались ей не по силам.
Медведь же не требовал никакой отдачи, а вот родным существом он был.
— Вот так-то, Мишка, — сказала вслух Ольга Евсеевна. Голос её разрушил часами висевшее в воздухе молчание и оживил комнату. — Вот так-то, Мишенька, — повторила она, радуясь возможности произносить имя мужа, — сейчас приберём и пойдём за покупками.
Обещанный приход Наташи и вероятность того, что Юрочка тоже заглянет к ней, подействовала магически на Ольгу Евсеевну. Она улыбнулась своим мыслям, и Мишка подмигнул ей пуговичным глазом.
**
Недавно Мила подтвердила диплом врача. Она прибежала к матери со взглядом совершенно ошалелого от радости человека, размахивая письмом из Министерства здравоохранения. И они плакали вместе от счастья, которое казалось иллюзорно-недосягаемым.
— Теперь мы поменяем квартиру, мамочка, — обняв Ольгу Евсеевну, мечтала вслух Мила, — я хорошо устроюсь на работу, мы купим большую квартиру на втором этаже, и ты вернёшься к нам. И там обязательно будет балкон с видом на парк, а не на эту ужасную каменную стену, как у тебя из окна.
— Конечно, Милочка, непременно с балконом, — кивала Ольга Евсеевна. Дочь всегда была мечтательницей, и разрушать её светлые иллюзии не хотелось.
Мила занялась поисками работы и неожиданно быстро нашла место в частной клинике. Работа ей нравилась, коллектив тоже. Она посветлела, стала вновь ребячливо-смешливой и вчера в первый свой отпуск отправилась с Аркадием и парой друзей на две недели в Таиланд в поисках экзотики. Ольга Евсеевна радовалась за дочь. Пусть отдохнёт…
А сегодня придёт Наташа, и они вместе скоротают вечер.
Осталось только купить яблоки и изюм…
***
Уже в вестибюле подъезда Ольга Евсеевна столкнулась с почтальоном Шимоном. Шимон немного хромал на левую ногу, и походка его всегда была слегка танцующей. Но на велосипеде он ездил виртуозно, и ещё Шимон обладал феноменальной памятью, столь ценной для его профессии. Он помнил всех жильцов своего участка в лицо и по имени. Вот и сейчас, увидев Ольгу Евсеевну около лифта, он радостно раскинул руки, словно собирался её обнять, и торжественно объявил:
— Госпожа Кантор, тебе есть письмо.
Это сообщение было произнесено на исковерканном русском языке с чудовищным акцентом выходца из Йемена. Но больше всего умилило Ольгу Евсеевну сочетание несочетаемого. Единственная принятая в Израиле панибратская форма тыканья с аристократическим обращением «госпожа». Однако Шимон не вникал в тонкости перевода. Он просто радовался, что так замечательно построил фразу на чужом языке, и протягивал женщине письмо.
Это был ответ от Маруси, который Ольга Евсеевна с нетерпением ждала. Много лет их киевские квартиры были рядом. Почти в одно время ушли из жизни Миша Кантор и родители Маруси. Осталась она в крошечной квартире с мужем Генкой и только родившимися близнецами Серёжкой и Антошкой. И тянула Маруся на себе всё своё шумное хозяйство. А когда Генке на стройке придавило бетонной плитой ногу, пришлось Марусе научиться жить на инвалидное пособие мужа и свою зарплату нянечки детского сада.
И никогда-никогда эта маленькая, вечно спешащая женщина не жаловалась. Но Ольга Евсеевна, которая помнила её ещё девочкой, видела, как Марусе тяжело, и старалась ей чем-то помочь. То мальчишек накормить вкусным обедом, то занести им что-то сладкое, или просто, стоя в очереди за дефицитными сосисками, купить и на Марусину долю полкилограмма.
А когда Ольга Евсеевна уезжала, то отдала соседке мебель, посуду, книги для ребят. Мальчишки вышли и чинно попрощались. Маруся сдержанно улыбалась, благодарила и вдруг расплакалась. Она обняла Ольгу Евсеевну, неловко поцеловала в щёку и пробормотала:
— А как же я теперь без вас?
Все годы жизни в Израиле Ольга Евсеевна при первой оказии передавала Марусе то сэкономленную десятку долларов, то подарки для сыновей и регулярно под Новый год поздравляла её с праздником. А месяц назад решила Ольга Евсеевна написать письмо бывшей соседке и обратиться к ней с просьбой. Попросила она Марусю по весне поехать на кладбище к мужу и посадить там цветы. Пусть хоть этим летом станет светлее около его памятника. Объяснила она Марусе, где на Берковцах находятся еврейские участки и как найти могилу Миши. Первый раз обратилась Ольга Евсеевна с такой просьбой к Марусе и чувствовала себя неловко. Придётся ей через весь город двумя автобусами и метро добираться на кладбище.
Но мысли о муже всё чаще не давали покоя. Если бы только Миша лежал здесь, рядом, и она бы могла его навещать…
Так думала Ольга Евсеевна, хотя хорошо понимала, что ни традиции, ни средства не позволят ей осуществить мечту.
И вот, наконец, пришёл ответ от Маруси. Ольга Евсеевна сразу открыла письмо и улыбнулась, увидев острые и скачущие вперёд буквочки Марусиных фраз.
«Как же я раньше не догадалась, — корила себя она, — а вы, Ольга Евсеевна, ни разу даже не намекнули. Конечно, я сразу поехала на Берковцы. Прошла через всё православное кладбище, аккуратное оно. Пришла на еврейское. И знаете, оказалась я словно в лесной чаще. Ни номеров рядов, ни могил. Пришлось обойти десяток памятников, а вокруг — заросли крапивы и сплошной непроходимый кустарник. Очень заброшенное ваше кладбище, даже сердце заныло… стёртые надписи, сломанные ограды, в некоторых местах видела я упавшие на памятники деревья… И высокий бурьян… Шла я и думала, как вас всех судьба разбросала, и кто сегодня помнит о людях, лежащих под надгробиями с вытертыми именами, над которыми колышется лишь бурьян?
Но мне повезло найти могилу Михаила Львовича. Прибрала её, как могла, очистила от листвы-многослойки. Хорошо, что Серёжка поехал со мной и взял инструмент. Он дверку в ограде починил, пока я убирала.
И конечно, посадила я калачики, как вы просили. Пока ростки только. Но у нас сейчас весна. То дождь, то солнце выглянет. Как раз для них погода. Думаю, что через пару недель первые цветы выйдут. А фотография на памятнике, Ольга Евсеевна, треснула. Словно варвар какой-то по ней чем-то тяжёлым ударил. Но пока держатся две половинки, а я у людей поспрашиваю, как её починить. Буду заботиться теперь за могилкой…
От Генки и ребят моих вам привет. Мальчишки за эти годы все ваши книжки перечитали. Взрослые они совсем стали. Техникум окончили, скоро в армию. Боюсь я её, очень боюсь. Хорошо хоть теперь, что с Украины в Сибирь служить не пошлют. Генка мой на БАМе два года служил, все пальцы рук обмороженные. А теперь мы отделённые, самостийные, и на том хорошо.
А вам, Ольга Евсеевна, и семье вашей мира желаю. Потому что больно видеть по телевизору, как у вас то стреляют, то взрываются. Такие беспокойные времена…»
От искренней доброты, наполнившей прыгающие строчки Марусиного письма, Ольга Евсеевна не сдержалась и заплакала. Как ни пыталась она представить постаревшую Марусю и её взрослого сына, а память услужливо рисовала их лица в день последней встречи перед выездом. А вот памятник Мишин в её воображении никак не блёк и не покрывался сырой опавшей листвой, а наоборот, блестел, отражая в гранитных волнах тёплое украинское солнце. Нет, нельзя плакать. Особенно, на крыльце «пенсионного» дома,где всегда не хватает для его обитателей чуть-чуть разнообразия в серых буднях и не удовлетворена жажда новостей. И что соседка из сорок второй квартиры получила письмо и плакала, разве это не информация к размышлению?
Ольга Евсеевна вытерла слёзы и, поглядывая на часы, пошла в сторону супермаркета. Насыщенный событиями день быстро пробегал рядом с ней.
Яблоки были замечательные. Дорогие, но такие красивые, что пригодились бы для хорошего натюрморта её любимого импрессиониста Поля Сезанна. Ольга Евсеевна решила украсить ими вазочку на столе, так квартира станет ярче. И Наташка с её активным изучением психоаналитики непременно оценит это как положительное явление.
Ольга Евсеевна купила изюм и даже букетик сиреневых цветов, напомнивших ей фиалки. Она всё ещё думала о письме Маруси, представляла, как вскоре пробьются прозрачные на солнечном свете лепестки калачиков вокруг Мишиного памятника, и улыбалась своим мыслям.
На пешеходном переходе терпеливо дожидалась зелёного света чёрная «Мазда», и пожилой джентльмен из открытого окна приветливо кивнул Ольге Евсеевне: мол, проходите. Это было так мило и неожиданно, что Ольга Евсеевна с симпатией помахала ему букетиком и пошла в сторону своего дома, чуть размахивая, как в молодости, пакетом с яблоками.
Она улыбалась и думала, какой замечательный сегодня день, а по соседней с «Маздой» полосе летела серебристая «Ауди», не обращая никакого внимания на красный свет.
Пожилой джентльмен, увидев её бешеный полёт в боковом зеркале, быстро нажал на сигнал. Но было поздно, слишком поздно…
***
Яблоки, действительно, казались отборными. Раскатившись по трассе, они краснели своими яркими наливными боками, словно символ плодородия земли Израиля. Женщина лежала в их ореоле с нелепо раскинутыми руками, будто сожалеющими, что не смогли защитить свою хозяйку. Рядом с седыми волосами преждевременным траурным венком были разбросаны маленькие фиолетовые цветы, которые она несла. Толпа собралась мгновенно. Кто-то пытался определить у женщины пульс, кто-то вызвал «скорую помощь». Полицейский патруль, оказавшийся поблизости, уже проверял документы у девушки, сидевшей за рулем серебристой «ауди». Многие быстро щёлкали фотоаппаратами мобильников. Девушка в больших тёмных очках прикрывала лицо от вспышек и выла, причитая на иврите:
— Почему? Почему? Хочу домой…
Кто-то в толпе шепнул, что полицейские нашли в машине кулёчек с кокаином и таблетки «метадона» и теперь водительнице не поздоровится.
Кто-то вздохнул и добавил:
— А старушке бедной, что теперь, это поможет? У неё пульс не прощупывается. Удар по голове пришёлся.
Наташа, наконец, собралась к Ольге Евсеевне. Она вышла на конечной остановке автобуса и, не спеша, продолжила путь. Но толпа, собравшаяся около тротуара, преградила ей дорогу. Рядом крутилась вертушка полицейской машины и пронзительно гудела «скорая», приближавшаяся к месту происшествия.
Когда люди расступились, дав дорогу медикам, Наташа автоматически оказалась в кольце толпы. Она не имела ни малейшего желания задерживаться здесь и вникать в происходящее. Но толпа вытеснила её в первый ряд. И тогда Наташа увидела бабушку…
***
Поздно вечером Юра и Наташа вернулись домой после оформления всех полицейских протоколов, опознания тела, которое отвезли в больничный морг. И оказались наедине с упавшими на них проблемами. Наташа прорыдала всю дорогу.
В больнице ей дали выпить успокоительное. Сейчас оно начинало действовать, и Наташка только всхлипывала и не отпускала Юрину руку. Юра сжимал её тоненькое запястье и понимал, что никакими фразами её не успокоишь. Каждое слово, которое он пытался выдавить из себя, превращалось в комок спазмов, душивших горло. И в то же время Юра знал, что сегодня за всё отвечает он. И он не имеет права быть размазнёй.
— Надо что-то делать, — сказал Юра, — мы должны принять решение.
— Какое ещё решение? — твердила Наташа. — Маму сюда надо, маму.
— Мы не будем звать маму, — наконец медленно произнёс он, — мы сами похороним бабушку. Всё сделаем, как нужно.
Наташа от изумления перестала всхлипывать и отпустила руку брата.
— Если сейчас вызвать маму из Таиланда, у неё будет стресс, — объяснил Юра. — Это очевидно, у неё нервная система никуда не годится. Я боюсь за неё. Маму нужно подготовить, к тому, что произошло. Мы поговорим с отцом, пусть займётся этим пока. Кроме того, ты же знаешь, что у евреев принято как можно скорее хоронить. Мне об этом в «хевра кадиша»[1] сегодня намекнули. Завтра пятница, похороним бабушку в канун субботы.
Наташа, привыкшая считаться с мнением брата, промолчала.
После похорон они поехали в «пенсионный дом». Соседи Ольги Евсеевны скорбными лицами встретили их у подъезда.
— Я не могу привыкнуть, что её у нас нет, — сказала Наташка.
— Я тоже, — признался брат.
В коридоре шестого этажа их догнала апельсиновая девица, внучка хозяина. Она пробормотала соболезнования и попросила разрешения войти с ними в квартиру.
— Понимаете, мне очень неловко, — сказала девица, — но я хотела поинтересоваться, когда вы сможете освободить квартиру вашей бабушки?
Юра недоумённо пожал плечами.
— Понимаете, — продолжила девица, — сейчас конец апреля. Если бы вы могли за ближайшие дни вынести вещи вашей покойной бабушки, то я не должна буду снимать с её счета деньги за квартплату. Она ведь их от министерства строительства на следующий месяц уже не получит. И возникнут осложнения. А у меня с первого мая есть другая клиентка. Может быть, вам это будет не очень затруднительно?
Воскресным полднем Юра и Наташа стали разбирать имущество Ольги Евсеевны. Наташка подолгу разглядывала каждую вещь и вздыхала. Всё вокруг казалось таким привычным и уже таким ненужным. Без бабушки.
Юра понял, что командовать, как всегда, придётся ему.
И принялся за дело. Вместе они освободили шкаф, сложили постельное бельё, всё поместилось в большом старом чемодане, с которым Ольга Евсеевна приехала в Израиль.
Юра складывал альбомы с фотографиями, пытаясь их разместить в пакеты. Фотографий было много, хотелось усесться, как раньше, рядом с бабушкой и листать альбом, перескакивая с года на год, но Юра знал, что сейчас нельзя позволить себе эту мягкотелость. Иначе они вместе с Наташкой уткнутся в своё детство, и тогда не будет места здравому смыслу. Наташка подняла с диванной подушки медведя, и он странно старо заскрипел. А ведь раньше был такой красивый… Что с ним теперь делать?
— Посмотри на него, — сказал Юра, — он же совершенно облезлый и старый. Бабушке он нравился. А зачем он нужен нам, этот Мишка… Вынесем его, и положим со старыми вещами. А фотки заберём, конечно. Я уже их сложил. Потом вместе посмотрим… когда мама приедет.
— Я боюсь, что мама никогда не простит нас, — сказала Наташа.
— Может быть, — задумавшись, ответил Юра. — Но мы сделали так в первую очередь именно ради неё.
Он продолжал рассуждать, словно уговаривал себя:
— Конечно, маме будет тяжело, и она будет очень переживать. Но затем, я уверен, ей станет легче. Папе я сообщил, он её подготовит. Ей не надо будет проходить опознание на кладбище, разбирать тут вещи. Она сможет запомнить бабушку такой, какой она была при жизни. Так лучше будет, Ната, поверь мне. И ей, и всем нам. А бабушку ведь уже не вернёшь.
Наташка плакала и кивала, размазывая по веснушкам слёзы.
— Ну, не реви, — расстроено сказал брат. Он повернулся к стопке вынутых из шкафа вещей, нашёл батистовый носовой платок бабушки и протянул сестре.
— Вытри нос, а то он от твоих веснушек превратится в яичницу.
Наташка сквозь слёзы улыбнулась.
Одежду и посуду они отвезли в благотворительную организацию «Открытое сердце». Фотографии сложили в три больших пакета. А старые вещи вынесли и положили около мусоросборника. Мишка упал рядом, на спину, и распахнул пуговичные глаза открытому небу. Худая пятнистая кошка выскочила из бака, увидев странное чёрное существо, обнюхала его и, оставшись довольной комнатным запахом, замурчала. Уткнувшись в тёплый Мишкин живот, она свернулась калачиком. Подремать на закатном солнце.
***
В Таиланде цветут орхидеи круглый год. Мила и Аркадий, как и все туристы, приняли эту страну, пережив шок другой цивилизации. Несметное количество ананасов, разбросанных на всех лотках, словно израильские апельсины на хайфском рынке, необыкновенной красоты живописные парки, особая аура таиландской культуры, местные, утопически дешёвые, массажи. Все было открытием для них. Две недели отпуска только начались, и не хотелось думать об его конце и возвращении в рутину. Хотелось наслаждаться каждой минутой, радоваться разнообразию, неожиданному душевному спокойствию и общению с экзотической природой. Мила всё порывалась купить подарки домашним. Но Аркадий прагматично заметил, что стоит подождать, сравнить цены, а купить сувениры они успеют и в конце экскурсии.
Но в одном из уличных киосков Бангкока, Мила увидела бамбуковый зонтик и обрадовалась ему, как старому знакомому.
— Куплю его маме, — сказала она, с удовольствием разглядывая яркую жар-птицу на зонтике, — кажется, у мамы в молодости был такой. Я видела на папиных фотографиях.
Аркадий промолчал.
***
А в далёком украинском городе Киеве Маруся поставила стирку, размешала борщ, попробовала на вкус рассол для огурцов и села писать письмо:
«Дорогая Ольга Евсеевна.
Как и обещала вам, опять я поехала на ваше кладбище. Мне туда не близко ехать, вы знаете, но для вас я к Михаилу Львовичу всегда поеду. И хочу сообщить вам, что принялись наши калачики, буйно расцвели. Наверное, от любви вашей.
Ох, красиво.
А про фото я поспрашивала тут в ателье, можно ли его восстановить. Как узнал фотограф, что фото для вашего мужа, то сказал:
“Для него всё сделаю. Сам поеду, сам пересниму,и новый медальон сделаю, ещё красивее. Он мне,как отец родной, был”.
Так и сказал, Ольга Евсеевна, фотограф этот. И добавил, что Михаил Львович его когда-то мальчишкой научил работе, дал ему хлебную профессию, ни один секрет не скрыл от него. И что он пойдёт в церковь — и за него свечку поставит, и за ваше здоровье помолится. Если вы не возражаете. А я думаю, чего вам возражать, раз человек хорошее слово хочет сказать? Так что вы только не волнуйтесь, берегите себя. И фото мы починим, и калачики цветут, и помнят вас люди. А что ещё в жизни надо…»

*«Официальное разрешение (ивр.)
** Хевра кадиша» — похоронная служба.