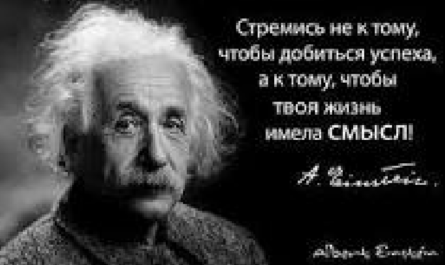Лина Городецкая
ШЕСТЬ ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО.
(Из ненаписанного дневника мамы…)
Мишенька уже уснул, а Гришаня все крутился. То раскинет ручки, то сожмет кулачки, сопит так воинственно, что снится ему, не поймешь. Я сижу рядом и слушаю детское дыхание, смотрю на красивые крошечные пальчики. Интересно же получилось. Два сына, два брата. Один – маленькая копия моего покойного отца, белобрысый, сероглазый, даже пальцы так смешно оттопыривает, как он. А второй… как же Гришенька похож на Бориса! Борька радовался этому, сразу узнал свою породу.
Но он красивый, мой муж. Так что и деткам нашим Бог послал быть красивыми. Тихо перекрещу их над кроватью. Это по привычке, пока Борька не видит. Так мать моя делала надо мной, а я не спала и одним глазом подглядывала. А мои мальчишки все-таки уснули. Пока маленькие, уютно им вдвоем спать и греться теплом друг друга. А иногда под утро оба бегут ко мне в кровать и продолжают спать, прижавшись. Мишка — справа, Гришка – слева.
А меня мой муж ласково называет Сонечка…,если смеется, то Сонька. А если злится… А он не злится никогда на меня. Любовь у нас.
Не очень мне нравится это имя – Сонечка. Но ему так ближе. Софией меня зовут, в память о великомученице Софии, так мама меня назвала, я родилась 17 сентября в Софиин день. А Борьке что, Борьке никакие традиции неважны, он коммунизм строит, это важнее и выше, чем все забобоны религиозные, считает он.
Ему так же было все равно, что семья не одобрила наш брак. Ох, что было там! Мать плакала, отец стучал кулаком. Сколько вокруг хороших еврейских девочек, а он меня им привел.
Нет, при мне не хлопали, не топали. Губы только поджимали, принимали вежливо, даже слишком, можно сказать. Это потом Борька приходил ко мне и рассказывал, что вся семья Шерман, тетки, дядья, все ходуном ходили. Не хотели меня в дом свой. А Борька хотел. Полюбил, как увидел. Надо же. В первый день, когда мы на первомайской демонстрации рядом оказались. А случайно ведь… Но, наверное, ничего случайного не бывает. Судьбой он мне был послан. И не вернулась я после учебы в свой ставропольский край, тут, на Украине осталась. Профессия такая, техник –строитель, она везде нужна. Так, где жизнь, там и строят. А теперь вот война, рушится все…
До войны мы еще успели съездить в мое село, на Ставропольщине. Не то, чтобы мать моя обрадовалась еврейскому зятю, но как увидела Мишку, сердце ее растаяло, копия ведь — мой отец. А Гришенька — вылитый Шерман, похоже, что после его рождения Борькина семья окончательно смирилась с тем, что у них русская невестка в дом пришла. А вот мне все равно, и Борьке тоже. Мы оба выше всяких национальностей, мы за равенство, за братство, как учат нас. Вернее, учили. Борька даже успел высшие партийные курсы окончить.
Где он сейчас, жив ли? Счастье, что не в городе, что на фронт ушел. На второй день, как немцы зашли, повесили в центре нашего городка трех коммунистов. Один из них — Борькин друг хороший. А теперь, вот за евреев взялись…
Завтра переводят всех в гетто жить. Отделили улицы, проволокой колючей все обвили, повыселяли людей оттуда, а евреев, значит, туда. Как они там все поместятся, не понятно, и вообще не понятно многое. Только не к добру это, чувствую сердцем, не к добру.
Гришеньке — три, а Мишеньке пять скоро исполнится. Сперва я хотела, конечно, девочку вторую. А когда родился Гриша, то подумала, наверное, лучше так… Друзьями будут расти, всегда вместе, всегда брат рядом. Мне вот брата не хватало всю жизнь, одна я у родителей, мамка хворала женскими болезнями, и после меня уже родить не смогла.
А у Борьки весело в доме, две его старшие сестры, вот пример настоящей дружбы. Броня и Хана, между ними тоже, наверное, два года. Но ведь, как подруги они, не только как сестры. У каждой уже по двое деток. Хана третьего ждет. Броня ей помогает во всем, особенно сейчас, когда Наум и Арон, мужья их, ушли на фронт…Мне иногда обидно, что нет у меня таких сестер.
Золовки меня хорошо приняли, лучше, чем их родители. С улыбкой, с теплом. Может и могла я стать частью их семьи, да вот гордость, она проклятая, вот такая у меня. Не нужна я им, ну и проситься не буду…Всегда была такой, еще в школьные годы. Ох, много я настрадалась из-за своего характера. Оказывается, надо было вырасти, чтобы понять это.
А вчера вечером пришла Геня Исааковна, свекруха моя. Удивилась я, когда ее увидела. Не помню, чтобы за все годы, что мы с Борькой вместе, приходила она сюда. Обычно мы к ним в гости ходили, когда Боря был дома.
Я ее честно не узнала. Надо же, вдруг старухой стать, буквально за две недели! Война…Беда это. Лицо серое, волосы платком накрыты. А ведь она всегда следила за собой…Погладила детей по голове, села около меня и тяжело вздохнула.
«Пришла я тебе предложить что-то, Софья, — сказала свекровь, — и молчит. Слов, значит, не находит. А затем сразу говорит: «Плохо наше дело, слухи разные ходят. Люди знакомые сюда чудом добрались, бежали из своего города, не буду тебе пересказывать, что рассказывают они…»
Свекровь опять вздохнула, и с ней вздохнули все морщины на лице. Я их раньше и не замечала. Она продолжила: «Да…так вот, говорят, что гетто — это временное жилище, что пригнали советских пленных за городом рыть ямы. Понимаешь, …»
Опять молчание. Она молчит, я молчу.
Страх, он заползает змеей, неслышно… А ведь права свекровь моя, права. Это я не замечала ничего, а вчера кто-то из соседей начал на пальцах еврейские квартиры считать, которые освободятся у нас во дворе. Один говорит другому: «Что ты их считаешь зазря? Переселишься, потом возвращать придется». А этот, дедок такой, с полуподвального этажа, говорит: «Не придется возвращать. Не боись.»
Слышала я своими ушами. И то, что квартиру Бориса Шермана с его «жиденятами» дедок этот в список внес тоже…
Страх он заползает и не уходит…
И свекровь моя сидит и не уходит.
— Я вот чего пришла, — наконец она говорит, — Я может, завтра заберу детей, а? Ты им приготовь, что считаешь нужным. Мы сможем их досмотреть…» — тут голос у Гени сорвался, слышу, плачет. А у меня и слез нет, окаменела я.
— Ты же понимаешь, Сонь, — вдруг говорит она. Никогда меня так не называла раньше… – «Ты ведь спастись можешь, тебя они не тронут…тут. А если попадешь в гетто, то дальше дорога неизвестно куда. Слышала я, что мой сосед Николай Трофимович помог собрать вещи своей жене Фаине, заходила она ко мне, советовалась, что брать. А он обещал помочь ей отнести все вещи до гетто. Вот я и думаю, может забрать мне мальчиков? Поверь мне, люблю я их, как Бореньку люблю. Младшего, «мизинчика» своего. Сколько слез и сколько счастья он мне принес. И детки его для меня – это он. Понимаешь? Но ты, ты молодая…Ты не должна страдать. Ты можешь решить иначе. Подумай!»
Все это время я молчала. Она встала, сняла косынку, завязала ее вокруг шеи, поправила прическу, помолодела сразу. Спину выровняла, значит, прошли минуты слабости.
— Ну ты решай, Софья, — сказала она.- Обещаю, дети будут со мной все время…В общем, чтобы ни случилось, всегда со мной. Броня и Хана тоже помогут мне, шестеро внуков, вместе досмотрим. Дай Бог, седьмого дождаться…
**
Я проводила ее до двери. И с тех пор сижу сама не своя. Положила детей спать. А в голове, Боже ж ты мой, как мысли собрать? Когда Геня пришла со своим предложением, первым делом мне хотелось выгнать ее. Потом я ее слушала и слушала, и до меня дошло все. Этот липкий ползучий страх…За себя, за Борьку, за деток. Руки дрожат от него, и мысли не связываются в один узел.
Я должна решить, а как…Как мне это решить?
Она предлагает мне выжить, мне не зачем идти с ними в гетто, я не еврейка. А мои дети? Мишенька и Гришенька, кто они? Да, я верю, что она досмотрит их, но как же я буду здесь спокойно спать, есть, жить, а они будут там? Мишенька просто обязан меня поцеловать перед сном, иначе он не усыпает. А теперь и Гришаня перенял у него эту привычку, топает маленькими ножками, обнимает за шею и говорит «Мама, цём!».
Я закрываю глаза, а земля плывет. Мир плывет подо мной, как огромный океан. Я никогда не видела океан, только читала о нем, а может, никогда и не увижу уже… Я должна что-то решить. И опять слышу голос деда с полуподвала и его радостные вопли: «Ох, завтра загуляем! Хватит нам тут жидов в доме разводить…»
Я бы осталась здесь, просто, чтобы было все как есть: я и детки. Но понимаю, что мы уже на крючке, вернее, в сети, и из сети нам втроем не выбраться… Выбраться могу я. Это то, что мне пришла предложить свекровь. Нелегко ей это далось, чувствую. Верю, каждому ее слову…
Я не спала всю ночь. И наступило утро. Я одела детей. Гришаня все время крутился и хотел кусать меня за нос. Он такой смешной еще. А Мишенька оделся сам, взял с собой деревянный самолет, которым ему Боря на прошлый день рождения подарил. На этот день рождения обещал корабль, Миша моряком хочет стать.
Гришеньке я дала в ручки оловянного солдатика. Пообещала, что он будет его охранять. Дети обрадовались, что мы идем к бабушке Гене. Они любят туда ходить, рядом ведь живут Броня и Хана, и им весело играть с двоюродными братиками. Я стою посреди комнаты. Вещи каждого из них сложены. Зимние пальтишки тоже положила. Хоть они и маловаты на них, не успела купить новые… От того, что я не спала ночью, голова тяжелая, как чугунный утюг. Да…утюг наш одолжила соседка Настя, а впрочем, какая разница.
Мы идем по улице, Гришу приходится нести на руках, Мишенька держит меня за руку. Геня Исааковна живет на границе с гетто. Но что с того, у себя дома она остаться не может, должна будет ютиться, а кто-то будет пировать в ее доме. Как это? За что? Почему? Но много — много евреев идут по этой улице, я никогда даже не обращала внимания на них, даже не знала, что эти люди – евреи. Например, наша детская медсестра Раиса, какая она чудная. Дети сразу успокаиваются, если она на приеме с доктором. И Семен Миронович, преподаватель нашего техникума, и еще и еще знакомые лица.
Свекровь готова, у них тележка, на тележке вещи и малыши Ханы и Брони. Геня кивает мне, почти заговорщицки. Я понимаю ее кивок. Скоро ворота гетто, туда можно будет войти, к вечеру они закроются, и наступит комендантский час.
Гриша крепко прижался ко мне и что-то шепчет своему оловянному солдатику. Миша не захотел садиться на телегу, хотя всегда ему в радость такие развлечения. Сейчас идет рядом со мной, волочит свой баул с вещами прямо по земле.
Ну-ка, — говорит моя свекровь, голос у нее неестественно радостный, — кто первый сядет на тележку нашу, Гришенька или Мишенька? Кто будет победитель? А у меня две вкусные ириски! Миша, конечно, загорелся новой игрой и быстро залез на телегу. Гриша потянулся к брату. Его посадили рядом.
Свекровь облегченно вздыхает. Она думала, что будет гораздо тяжелее оторвать их от меня. Дети едут на тележке вовнутрь гетто, возница подгоняет лошадь, ему некогда, и хочется скорее закончить этот странный путь. Дети уверены, что это такая игра, и машут мне рукой. Я тоже машу им в ответ. И улыбаюсь им. Иначе ведь нельзя.
У меня свободные руки. У меня правильная национальность. Я стою перед этими воротами. А все идут и идут туда. Знакомые и незнакомые люди, старики, опираясь на палки, беременные женщины, малыши на руках у матерей. Я стою и смотрю на них, словно впервые начинаю понимать что-то в этой жизни. Словно до сегодняшнего дня не жила, а только репетировала жизнь. И вдруг жить так хочется! И голубое небо, и еще такая теплая осень стоит вокруг…
За спиной тяжелеет мой баул, напоминая о себе. В нем вещи первой необходимости, которые я собрала под утро. И письма Борьки, он мне из каждой поездки всегда пишет письма и рисует что-то красивое, у него талант художника, это точно.
О чем я думаю сейчас…О чем должна думать? Тут — жизнь, моя квартира, за углом продают мороженое. Все, как всегда, будто ничего не случилось.

А там, за воротами гетто…Я не хочу думать, что будет там. Я не могу больше думать. Я иду за угол дома и покупаю мороженое. Шесть порций ванильного пломбира в вафельных стаканчиках. Вытряхиваю всю мелочь. Не хватает несколько копеек. «Потом отдашь», — сказала знакомая продавщица и добавила свои монетки. Я благодарю и киваю. Хотя совсем не уверена, что отдам.
Но у меня шесть порций мороженого. За спиной баул. А дальше…
А дальше ворота гетто, за ними – мои дети…