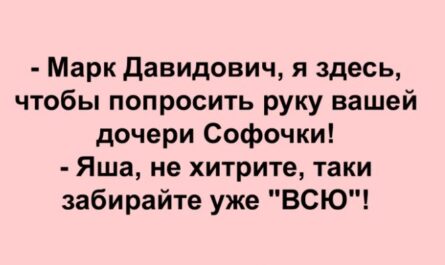Чудеса случаются. И это было чудо. Или — журналистская удачливость, называйте как угодно… Нет, все-таки для человека моей профессии в нашей стране образца 1987 года это было пока еще чудо.
Случилось оно так.
Киоск Мосгорсправки, расположенный возле гостиницы "Интурист", в пяти минутах ходьбы от Кремля, был открыт. Очереди — никакой. Хозяйка киоска, женщина лет сорока, с сероватым, нездоровым лицом, протянула мне форменный бланк-заявку: "Заполняйте!"
Первые три пункта мне дались легко: "Фамилия. Имя. Отчество". — Хват Александр Григорьевич. "Место рождения" — я поставила прочерк. "Род занятий". Я написала: "Следователь НКВД". Хотя понимала: это — полная безнадега. Во-первых, НКВД с того времени уже дважды сменил свою "вывеску" — сначала на МГБ (Министерство госбезопасности), потом на КГБ. Во-вторых, человек, которого я искала, скорее всего уже давно вышел на пенсию, и, не исключено, с совершенно другого места работы. "Возраст"? — тут требовалось посчитать: в 1940 году Хват был старшим лейтенантом НКВД, — значит, пришел в органы пару годами раньше: "старшего" сразу не давали. Пришел скорее всего по комсомольскому набору тридцать восьмого года, после того как органы подверглись второй сталинской "чистке", — тогда из НКВД убирались кадры прежнего наркома — Ежова. Им на смену заступали новые — уже бериевские ребята. Сколько тогда могло быть лет Хвату? Двадцать пять? Тридцать? Я поставила: "1910 года рождения". Пункт "7", последний — "предполагаемый район местожительства"? — Это-то мне и хотелось знать.
Заполненный бланк-заявку я вернула в окошечко киоска. Теперь мне оставалось только ждать.
Человек, которого я уже не первую неделю разыскивала, следователь НКВД Александр Хват, в 1940 году принял к производству дело на знаменитого генетика, академика Николая Вавилова.

В тот год Вавилов вдруг исчез с мировой научной сцены — он был арестован. И, как миллионы других его сограждан, приговорен к расстрелу. Год отсидел в камере смертников. Расстрел распоряжением Берии заменили 20 годами тюрьмы. И в январе 1943 года, Николай Вавилов, выдающийся генетик, ботаник, биолог и географ, бывший президент ВАСХНИЛ* и бывший директор гремевшего на весь мир Всесоюзного Института растениеводст-ва, создатель уникальной коллекции семян растений, в том числе и десятков видов семян хлебных злаков… в январе 43-го года, умирая в 56 камере III корпуса Саратовской тюрьмы от голодной дизентерии, Вавилов просил тюремщиков: "Дайте мне немножечко риса". Не дали: "Рис врагам народа не полагается".
О Вавилове я писала очерк. И просматривая сотни страниц архивов, воспоминаний, вышедших в "тамиздате" книг, я наткнулась на эту фамилию — Хват.
Позвонила в пресс-центр КГБ — тогда это был единственный канал связи журналистов с Лубянкой, — мне ответили: "Хват Александр Григорьевич давно умер".
Интуиция подсказывала: врут.

Теперь мне оставался один путь. Тот путь, которым простые советские граждане ищут таких же простых советских граждан — уличные киоски Московской городской справочной службы. Но Хват не был простым советским гражданином. А не простые советские граждане в картотеках простой советской Мосгорсправки не значились. А может быть, не был, но — стал?
…Голова "женщины из киоска" показалась в окошечке и поманила меня.
"С вас сорок копеек", — сказала она и протянула мне обратно мою заявку.
1910 год рождения был переправлен на 1907. Внизу шариковой ручкой был написан адрес: улица Горького(ныне Тверская), дом 41, кв.88.
Это и было чудо.
Я стояла посередь тротуара, мимо меня, толкая меня, шли туда-сюда люди, а я, пораженная, в десятый раз перечитывала адрес и пыталась понять, как теперь мне с этим чудом распорядиться.
Забегая вперед, скажу: когда уже потом, уже побывав у Хвата, я влетела в кабинет своего главного редактора Егора Яковлева и выпалила: "Я взяла интервью у следователя Вавилова", — Яковлев посмотрел на меня устало и тихо сказал: "Только этого мне еще не хватало"… Это была осень восемьдесят седьмого года, и это было какое-то смурное и странное время: чтобы купить "Московские новости" читатели вставали в очередь затемно, но в высоких кабинетах газету и ее главного редактора поносили беспрестанно. Гласность вроде бы уже была объявлена, но гласности еще не было — были лишь отдельные прорывы в нее. Еще гуляла вовсю цензура и особо острые — по тем временам — материалы затребовались на "одобрение", то есть на ту же цензуру, в Отдел пропаганды ЦК КПСС. О сталинских репрессиях только начинали писать, ни одного интервью со следователями НКВД тогда в печати еще не появилось, и вообще все ждали доклада Горбачева в связи с 60-летием революции. Вокруг доклада шла борьба, особенно вокруг оценок сталинских репрессий, партийные наши вожди по-прежнему боялись сказать то, что было сказано Никитой Хрущевым еще в 56-ом году, да и всего лишь два года назад Горбачев воздал хвалу Сталину за его великие заслуги в годы войны и был за то награжден бурными аплодисментами собравшихся в Кремле. Короче, для нас, журналистов, от того, каким будет доклад, зависело, сможем ли мы публиковать то, что пишем, или же, как и прежде, наши материалы будут уродоваться цензурой либо вовсе сниматься с полосы.
Однако тогда, когда я стояла посередь тротуара возле киоска Мосгорсправки и, тряся от удивления, как лошадь, головой, выучивала наизусть искомый адрес, доклад Горбачева и все верхушечные игры вокруг него интересовали меня в самую последнюю очередь. Дилемма была одна: позвонить Хвату по телефону (имея адрес, достать номер просто) и договориться о встрече или — тут же ехать к нему. Позвоню — может испугаться и начать советоваться с каким-нибудь кагебешным начальством, это — конец, не позвоню, заявлюсь так… Во-первых, без звонка как-то неловко, во-вторых — может выгнать.
Я решила ехать.
Спустя пятнадцать минут я уже стояла возле этого большого, мрачноватого, тяжело нависающего дома — типичная архитектура сталинской эпохи, с такими же тяжелыми, массивными деревянными дверьми подъездов, каких теперь не делают, и мраморной облицовкой внутри и искала глазами нужный мне пролет. Тут я увидела седеньких старичков, сидевших на лавочке во дворе и мирно беседовавших о чем-то своем. Старичкам явно было под восемьдесят или около того, и они, очевидно, вышли погреться и порадоваться последнему осеннему солнцу. Я уже совсем почти собралась пойти к ним, спросить, где квартира номер… И вдруг осеклась. А ведь эти милые старички, — подумала я, — они же тоже… тоже вполне вероятно — из той славной когорты бериевских или абакумовских ребят… Дом-то ведомственный, в конце тридцатых специально был выстроен НКВД для своих сотрудников — коренные москвичи об этом знали. Нет, конечно, никакого страха у меня не было — чего теперь-то бояться, — просто я, родившаяся через пять лет после смерти Сталина, через четыре — после расстрела Берии, впервые нос к носу сталкивалась с теми, кто порушил жизнь многих знакомых и дорогих мне людей, кто ворвался смертью в жизнь семьи Альбацев и о ком я раньше читала только в книжках.
И тут я явственно увидела эту "картинку". Увидела, хотя видеть ее не могла — меня тогда просто не было на свете. Увидела вот этих милых старичков, но только таких, какими они были сорок-пятьдесят лет назад. Увидела, как вот к этому дому в предрассветом сумраке утра подъезжали черные машины и они выходили из них — молодые, крепкие, в перетянутых крест-накрест ремнями гимнастерках. Выходили усталые, даже осунувшиеся от постоянных недосыпов, но с видом людей хорошо и трудно поработавших в эту ночь. Следователи возвращались после ночных допросов. Возвращались, чтобы три-четыре часа передохнуть и потом снова сесть в ту же "эмку" или на трамвай, и снова — вести обыски, писать обвинительные заключения: "мера пресечения — расстрел", отбивать почки… Стальные люди — как только здоровья хватало! Стальные? А где-то в камерах, во Внутренней тюрьме на Лубянке-2 или в Бутырках, после этой их работы стонали измученные ими люди… Дальше вижу, как эти следователи поднимались на лифтах в свои квартиры, как встречали их заспанные жены. Или — нет, не встречали, а они сами отворяли дверь, тихонечко разувались в прихожей, чтобы не наследить, на цыпочках пробирались сначала в ванную — надо же помыть руки после такой работы, потом прошмыгивали на кухню, где их ждал то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак. Потом, быть может, заглядывали в детскую, умильно смотрели на своих разметавшихся на постелях мальчиков и девочек. У Хвата было четверо детей. Потом входили в спальни и на вопрос жены: "Устал?" — "Да, что-то тяжкая сегодня выдалась ночка"… И ложились рядом со своими женами и теми же руками ласкали их… А может быть, кто-то отвечал и по-другому? Кто-то каялся в этих своих страшных ночных грехах? Кто-то метался от страха: а что если… не ровен час… и меня вот так же свои же — своя же стая окружит и…? И свои же приклеят "дело". И свои же заставят в том признаться — методы известны. А может быть, кто-то обкусывал губы до кровоточин — от невозможности завтра идти туда же и выполнять ту же работу и от невозможности не идти…
Я поднялась на третий этаж этого дома и позвонила. Дверь открыла женщина средних лет.
— Здесь живет Александр Григорьевич Хват?
— Папа, — негромко позвала она.
Он вышел из соседней комнаты. Широкогрудый. Когда-то, видно, высокий. Голый череп в обрамлении коротко стриженных седых волос. Старость, хотя он выглядел моложе своих восьмидесяти лет, выдавала шаркающая походка и какая-то сгорбленность фигуры. Нет, точнее, не сгорбленность — согбенность: как будто что-то давило на него сверху и все больше склоняло в странном полупоклоне, все больше прижимало к земле. Потом я пойму: его давил не только возраст — страх.
Хват профессиональным жестом раскрыл мое редакционное удостоверение, внимательно прочитал, сверился с фотографией.
— По какому вопросу? — спросил.
— Давайте пройдем в комнату, — оттягивая возможность быть изгнанной, сказала я.
— Пожалуйста, — он покорно открыл дверь комнаты и пропустил меня вперед.
В комнате стояла двуспальная кровать — по примятым подушкам видно было, что он, когда я пришла, лежал. Еще стояли две тумбочки для белья, шкаф, пара стульев. Больше — ничего.
Хват поставил стул у окна — так, чтобы свет падал мне на лицо. Сам сел у стены, напротив.
Я начала в лоб:
— Вы работали следователем НКВД?
— Да.
— Помните, в сороковом году вы вели дело Вавилова, академика…
— Как же, конечно помню…
Покорность Хвата поразила и сковала меня. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Вся заготовленная загодя агрессия оказалась не нужна.
Передо мной сидел старик. Просто — старик. Уставший и, кажется, больной.
А мне предстояло напомнить ему, что Вавилова он мучил одиннадцать месяцев — четыреста раз вызывая на долгие, многочасовые допросы. Что, по свидетельству очевидцев, после этих допросов Вавилов идти сам не мог: до камеры N 27 в Бутырской тюрьме его доволакивали надзиратели и бросали возле двери. Сокамерники помогали Вавилову забраться на нары и снять ботинки с огромных, вздутых, синих ступней.3 Академика ставили на так называемые "стойки" — пытка эта означала, что человеку по десять и больше часов (иногда она растягивалась на дни, и тогда у пытаемых лопались на ногах вены) не позволяли сесть… После полугода такого следствия (Вавилова обвиняли в шпионаже и вредительстве) из крепкого, подтянутого, даже чуть франтоватого пятидесятитрехлетнего мужика, академик превратился в очень пожилого человека.
Я неловко выдавила из себя:
— Свидетели утверждают, что вы применяли к Вавилову… (я искала слово помягче) жесткие методы следствия…
— Категорически отвергаю, — быстро и заученно ответил Хват. — Был же и другой следователь, Албогачиев, — тут же продал он своего коллегу. — Нацмен, — добавил.
"Нацмен" — это сокращенное от "национальные меньшинства". Так русские порой снисходительно называют выходцев из Средней Азии и с Кавказа.
— Албогачиев — он малообразованный человек был. Ну и нацмен, сами понимаете… — снова повторил Хват. — У него с ним (с Вавиловым. Хват упорно не называл Вавилова ни по имени, ни по фамилии — "он", "с ним") — отношения так, не очень были…
Это был известный сталинский прием, впрочем, весьма удачно применяемый и во все остальные годы советской власти, провозгласившей интернационализм и "дружбу народов". Вавилов был русский, значит, пытал его, конечно же, нацмен. Не мог же он, Хват, русский с русским, со своим такое делать?
Хват искал во мне понимания своей логики. Каюсь — не нашел.
— Скажите, вы верили в то, что Вавилов — шпион?

— В шпионаж я, конечно, не верил — данных не было. То есть было заключение агентурного отдела — существовал такой в Главном экономическом управлении НКВД (видимо, это нынешнее 7 управление — "топтуны"): так и так, шпион. Агентурный отдел его "разрабатывал", но данные нам не передавали — у себя оставляли. Они и постановление на арест по таким делам писали. Ну, а что касается вредительства — что-то он (Вавилов) не так в своей сельскохозяйственной науке делал. Тут я собрал экспертизу — академик ее возглавлял, к Трофиму Лысенко ездил. Они, то есть академики и профессора, подтвердили: да, вредил.
— Вам не было жалко Вавилова? Ведь ему грозил расстрел. Так, по-человечески, не было жалко?
Я ждала ответа, почти уверенная, что вот сейчас Хват скажет: "Да, было жалко, но, знаете, время было такое…" Ведь только что, пять минут назад, Хват не сумел сдержать слез, рассказывая мне, как в начале шестидесятых, в годы хрущевской реабилитации, отобрали у него партбилет и положенную повышенную пенсию полковника КГБ ("пенсия у меня общегражданская") — "за нарушение соцзаконности в годы работы в НКВД"… Я же ждала от него жалости к человеку, у которого отняли жизнь. Ах, как же я была еще наивна!
Хват рассмеялся (рассмеялся!):
— Что значит жалко? — Так и сказал. — Ну что он, один, что ли?..
Не один, это правда, миллионы безвинных ушли в сырую землю. Хотя, конечно, Николай Вавилов был человеком неординарным, редкого дарования и таланта. В тюрьме он написал свой последний труд — "История мирового земледелия". Рукопись пропала. Или, что скорее всего, покоится где-то в бездонных архивах КГБ… Но перед смертью — перед смертью и теми муками, которые выпали, — все, конечно, равны.
"Что значит жалко?" — сказал Хват. Сказал не юнец, не тридцатилетний старший лейтенант НКВД — восьмидесятилетний старик, которому и жить-то осталось всего — ничего…
Как все было бы просто — и не стоило бы тогда об этом писать, если бы Хват и его коллеги были садистами, палачами по характеру, по складу души. Ну, что-то вроде Эльзы Кох. Нет, конечно, были в ВЧК и НКВД и такие, и не один десяток таких. Но не о них речь. Хват был нормальным человеком. Нормальным. Уже после того, как "Московские новости" опубликовали мой очерк о Хвате ко мне неожиданно приехал его племянник, физик из Ленинграда. Он был совершенно поражен — буквально сражен тем, что прочитал о своем дяде. "Вы понимаете, — говорил он мне, — дядя Саша был добрым гением нашей семьи: он спас меня и моих родных, когда мы умирали от голода в блокадном Ленинграде. Я знаю, что он помогал и другим людям…" Помогал. Наверное даже помогал. И для дочери Хвата, Наташи (она работала освобожденным секретарем парторганизации Института прикладной механики им. Келдыша), как и для других его троих детей, он — лучший, самый любимый папа. И после всех публикаций о нем в газетах все равно — любимый. Что, на мой взгляд, только делает им честь.
А в то же время, когда "дядя Саша" — Хват спасал далеких и близких ему людей из умирающего Ленинграда, его коллега, лейтенант Николай Кружков, в том же самом блокадном Ленинграде сажал за решетку ученых, занимавшихся, кстати сказать, оборонной тематикой. "Признание" своей вины, то есть подписание истощенными от голода, похожими на скелеты учеными той "липы", которую сочинял Кружков, оплачивалось им 125 граммами хлеба. И сын Кружкова, тоже, кстати, ученый, только из Московского университета, доказывал моему коллеге Ярославу Голованову, что его отец был добрым и хорошим человеком, но он выполнял приказ…
Так что, нормальные люди. Или — нормальные советские люди? Может быть, это уточняющее прилагательное — как раз то, чего для объяснения недостает?
Тот же Хват — вырос в большой семье крестьян-батраков. Учился в школе, и скорее всего первые годы своего ученичества (они пришлись на дореволюционное время) — в церковно-приходской школе. Значит, основы Закона Божьего проходил. Потом, как рассказывал, поступил в совпартшколу — изучал основоположников марксизма-ленинизма. В совпартшколу всех не брали — только "классово своих", то есть молодых людей пролетарского либо крестьянского происхождения. Усвоил, полагаю: он, Хват, для этой власти — свой, ее белая кость; они, те, что за дверьми школы, кого и в институты, и в университеты из-за социального происхождения не брали, из дворян, купцов и т.д. (то есть из семей "эксплуататоров"), — чужие. Дальше — карьера очевидная: работал в районном комитете партии, в комсомоле. Боролся — писал доносы на своих коллег.5 Перевели в столицу, в Москву, направили в Центральный Совет Осоавиахима.
В тридцать восьмом, когда наркомом НКВД стал Лаврентий Берия, пригласили на беседу в НКВД, сказали: ЦК партии отобрал вас для работы в органах. Хват, по его словам, пробовал отказаться: "Верхнего образования нет, юридического дела не знаю". "Надо, — отвечали. — Поможем, научим, все будет в порядке". И про то, что если откажется, партбилета лишится, —тоже намекнули. Пошел. С чем? Что он знал? Ведь нормального образования у него действительно не было, нормальных книг — и по недостатку времени, и от отсутствия привычки — не читал.
А знал он вот что.
Ленин: "Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячу Красноармейцев и рабочих? — Первое лучше".
Сталин: "Шахтинцы" (то есть враги народа, вредители) сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко не все выловлены".
Вышинский (Прокурор СССР): "Во все советские учреждения и организации проникло много врагов, они замаскировались под советских служащих, рабочих, крестьян, ведут жесткую и коварную борьбу против советского народного хозяйства, против Советского государства".
Каганович (секретарь ЦК ВКП(б)): "Мы отвергаем понятие правового государства. Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие "правовое государство" к Советскому государству, то это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве".
Таковы были "университеты" Хвата.
Ну, а кроме того, из всех репродукторов, со всех газетных страниц — враги, враги, враги. Дети приходят из школы: отец Иванова — шпион; жена с работы: муж Петровой — вредитель; в очереди за молоком: "Про Тухачевского слышали? — Шпион. А про жен Буденного, Молотова, Калинина? — Тоже. Да, говорят, завербовали". И ведь верили. Многие — верили, хотя год назад, да что там — месяц назад газеты писали: "Наш красный маршал Тухачевский, герой Гражданской войны".
Шпион — стала самой массовой профессией в стране. По данным НКВД, за три года — с 1934 по 1937 — число арестованных за шпионаж выросло в 35 раз (в пользу Японии — в 13 раз, Германии — в 20 раз, Латвии — 40 раз).
Людей, нежданно-негаданно оказавшихся вдруг "троцкистами", в тридцать седьмом "обнаружили" в 60 раз больше, чем в тридцать четвертом. А ведь Троцкий был выдворен из страны еще в двадцать девятом.
За участие в так называемых "буржуазно-националистических группировках" число арестованных в 37-ом году выросло в 500 (!) раз по сравнению с годом тридцать четвертым… Это ли не уроки бдительности для Хвата? Ну а то, что друзей и знакомых, соседей и сослуживцев чаша сия горькая не минула? —"Так ведь лес рубят — щепки летят", — повторил мне в нашем разговоре Хват известную фразу тех времен. Только вот о том, что "щепки" эти — люди, он и в восемьдесят лет не задумался.
Вот с таким багажом Хват пришел в НКВД. Ну, а там ему действительно "помогли" и "научили": "Следствие в условиях работы органов НКВД ведется с соблюдением норм УПК. Но основания для возбуждения уголовного дела несколько шире, чем в УПК". И это предложили усвоить: "Нельзя дать обвиняемому превосходство над собой… Нужно в ходе следствия обвиняемого держать в руках. Ведь это серьезная борьба с врагом, в которой вы его должны уличить и привести к сознанию". И об этом — если сам следователь на тюремные нары не торопится, не следовало забывать: "Отказы от правдивых показаний (ранее полученных от обвиняемого), объясняются только тем, что арестованный уходит из-под влияния следователя и подпадает под чужое влияние, которое недопустимо. Нужно помнить, что сознавшийся арестованный не перестал быть врагом и будет искать лазейку, чтобы уйти от ответственности. Отказы от показания показывают плохую работу следователей над арестованными". Все три цитаты — из учебного пособия для сотрудников НКВД, которое было написано следователями Владимирским, Ушаковым, Шварцманом еще по заказу наркома Ежова, а утверждено как руководство для сотрудников НКВД уже наркомом Берия, когда Ежова расстреляли. Делаю это уточнение неслучайно: в январе 1938 года Пленум ЦК ВКП(б) принял специальное постановление, осудившее беззакония в органах НКВД. Малый процент арестованных вышел из тюрем и лагерей (чтобы позже попасть в них вновь). Однако бесчисленные документы свидетельствуют, что эти беззакония были до Пленума, во время его работы и после того, как он принял свое специальное постановление.
Чудовищный, невиданный спектакль, поставленный большевиками еще в годы Красного террора на сцене, именуемой СССР, продолжался ни на минуту не прерываясь!
Ну, а что же понималось в НКВД под работой хорошей?
Вот документ — показания бывшего начальника Главного строительного управления Наркомпищепрома СССР Аркадия Емельянова (его арестовали в конце 37 года), данные им после реабилитации, в 1955 году, военному прокурору Главной военной прокуратуры СССР, майору юстиции Кожуре.
"…Вы знаете за что Вас арестовали?" — спрашивает меня Луховицкий (следователь, который вел дело Емельянова). — "Нет, не знаю". Луховицкий сделал шаг вперед, плюнул в лицо и обругал матом. Я бросился на него. Он ждал этого и ударил меня ногой в пах. Я потерял сознание. Очнулся на полу в уборной, которая была напротив комнаты следователя, в мокрой и окровавленной одежде с разбитыми губами и носом. Возле меня стоял Луховицкий и фельдшер, который дал лекарство, пощупал пульс и сказал: "Страшного ничего нет". Меня ввели снова в комнату и поставили к стенке. Луховицкий предупредил, что я буду стоять на "конвейере" до тех пор, пока не подпишу показаний. Издевался до утра. Ему на смену пришел другой 23-25 лет с вьющимися светлыми волосами. Был до середины дня, уговаривал не мучить себя и дать показания. Затем пришел в штатском 20-22 лет. Его поздно вечером сменил Луховицкий. Так — трое суток. Я все время стоял на ногах. Не давали пищи. В дежурство Луховицкого не давали воды и не разрешали курить. На четвертые сутки у меня на опухших ногах полопались сосуды и ноги превратились в бесформенную кровавую массу. Появились галлюцинации, временами я терял сознание, падал. Меня поднимали и, как выражался Луховицкий, "подбадривали пробойками": в пробках от бутылок были проколоты иголки и булавки, которые выходили на 2-3 миллиметра. Ими кололи бока, снизу ноги. Применяли и другие способы "подбадривания": когда я закрывал глаза, выдергивали волосы из бороды и усов. "Напишите на клочке бумаги, кто вас завербовал, протокол составлять не будем". — "На кого конкретно я должен дать показания?" — "Вы сами должны знать. Но это лицо должно быть известным в стране и должно принадлежать к руководству партии". — "Член ЦК?" — "Пусть вас не смущает, даже если это будет член Политбюро, и учтите, что у нас уже сидят члены Политбюро Рудзутак, Коссиор, Чубарь, Эйхе". — "А какие показания вас могут интересовать?" — "Получите тезисы. Их надо только развить". Не в силах выдержать "конвейер" написал: "Считаю бесцельным дальнейшее сопротивление следователю. Я признаю, что входил в…" Через несколько дней вызвал: "Думаете ли вы давать показания?" — "Я уже дал, что еще надо?" —"Это ерунда. Нужны настоящие показания". Я молчал. "Поедете в Лефортовскую тюрьму и уж там напишете все, что требуется". Через два-три дня, ночью Луховицкий допрашивал в Лефортове с еще двумя следователями и избивал в течение часа резиновой дубинкой, скруткой из голого медного провода, топтал ногами.
Читать далее:
https://bessmertnybarak.ru/article/polkovnik_khvat/