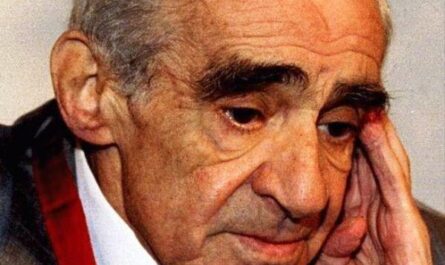«Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела. А только начинаешь жить».
«Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных».
«Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале — посмотреть, какая я в слезах».

«Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «…так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе».
«…Писать должны писатели, а актерам положено играть на театре».
«Все бранят меня за то, что я порвала книгу воспоминаний. Почему я так поступила?
Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, — листья бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, и было похоже, что это мертвые птицы.
«Воспоминания» — невольная сплетня».
«…Поняла, в чем мое несчастье: я, скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая дура» — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я. Как унизительна моя жизнь».
«В Крыму в те годы был ад…»
«Крым. Сезон в крымском городском театре. Голод. «Военный коммунизм». Гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Потому и порвала книгу».
«В Крыму в те годы был ад. Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода. Жили в монастырской келье, сам монастырь опустел, вымер — от тифа, от голода, от холеры. Сейчас нет в живых никого, с кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом, при коптилке».
«Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали горьковского «Буревестника», и любила повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра».
«Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: «Ой, ой, ой, мальчики, ой, ой, ой, бедные, погибло все и навсегда!» Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп. Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в «Первый советский театр в Крыму».
«…Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю все лучшее»
«…Вот что я хотела бы успеть перечитать: Руссо — «Исповедь», Герцен — «Былое и думы», Толстой — «Война и мир», Вольтер — «Кандид», Сервантес — «Дон-Кихот». Данте. Всего Достоевского».
«Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла её стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — дарила меня дружбой до конца своих дней».
«Из дневника Анны Андреевны: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно, проясняется: люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И сколько горьких и даже страшных чувств». Я написала бы все то же самое. Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным».
«Она была великой во всем. Я видела её кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда её терзали.
…Проклинаю себя за то, что не записывала за ней все, что от нее слышала, что узнала!»
«Перед великим умом склоняю голову, перед Великим сердцем — колени». Гете. И я с ним заодно. Раневская».
«Из Парижа привезли всю Тэффи. Книг 20 прочитала. Чудо, умница».
«Перечитываю Бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду убиенному».
«80 лет — степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца — он мне дорог, как небо. Как князь Андрей. Я смотрю в небо и бываю очень печальна».
«…Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю все лучшее и конечно же «Войну и мир». А войны были, есть и будут. Подлое человечество подтерлось гениальной этой книгой, наплевало на нее».
«…Мальчик сказал: «Я сержусь на Пушкина, няня ему рассказала сказки, а он их записал и выдал за свои». Прелесть! Но боюсь, что мальчик все же полный идиот».
«В театре небывалый по мощности бардак»
«Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства».
«В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить», они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…»
«В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили».
«Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая — «Куда смотрит милиция?». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: "Я вижу, что юмор вам недоступен"».
«Видела гнусность: «Дядя Ваня» — фильм. Все как бы наизнанку. Бездарно. Нагло, подло, сделали Чехова скучнейшим занудой, играют подло».
«Я не знаю системы актерской игры, не знаю теорий. Все проще! Есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно, изучать систему вполне возможно и даже принято, может быть, потому мало хорошего в театре».
«Старухи бывают ехидны»
«Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки…»
«Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!»
«Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца».
«Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами.
Недавно прочитала в газете: «Великая актриса Раневская». Стало смешно. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище! Есть приблудная собака, она живет моей заботой, — собакой одинокой живу я, и недолго, слава Богу, осталось.
Мне 85 лет.
У меня два Бога: Пушкин, Толстой. А главный? О нем боюсь думать».
«Увидела на балконе воробья — клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это…»
Из: Фаина Раневская «Судьба-шлюха», АСТ, Олимп, 2007