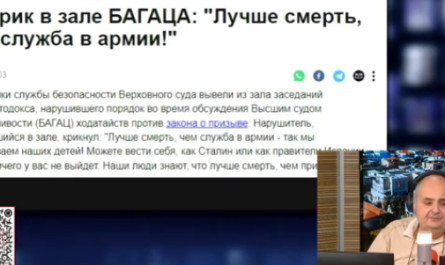Возраст, такое впечатление, обходит его стороной. Гениальный славянский режиссёр, как называет своего однокурсника актриса Валентина Талызина, до сих пор не ведает покоя и не устаёт экспериментировать, удивлять и шокировать почтенную публику. Кто-то скажет, что главные победы Виктюка позади и феноменальный успех «Служанок» образца конца 80-х уже не повторить. В ответ главный театральный провокатор страны лишь усмехнётся. И отвесит новую звонкую пощёчину общественному вкусу.


Дмитрий Тульчинский
— Роман Григорьевич, такое впечатление, что вы подминаете мир под себя. Признайтесь, есть такое?
— Может быть. Но я никого не переделываю. Просто пытаюсь вычистить все те шлаки, которые то или иное государство, то или иное время обязательно в человека сознательно вкладывает.
— Но актёров же точите под себя, как Папа Карло. Сами говорили, что «чичирки» и «манюрки» (так своеобразно Виктюк называет мужское и женское начало. — Авт.) в актёре должно быть 50 на 50. И если видите, что строгая пропорция не соблюдена, стараетесь исправить. Это же подавление.
— Не подавление, а развоплощение. Той тайны, которая есть в каждом из нас. Раз-во-пло-щение.
— А сопротивление подопытных ощущаете?
— Никогда не было сопротивлений. Ни-ког-да. Ни от Дорониной, ни от Демидовой, ни от Образцовой, ни от Макаровой — а это всё лучшие артисты второй половины ХХ века, целые планиды, а не индивидуальности. И мы летали вместе замечательно.
— Откуда же все эти разговоры о ваших знаменитых истериках во время репетиций?
— Почему «истерики»? Это выбросы энергетические. Я актёров уволакиваю в этот вихрь. И они знают и ждут того момента, когда в этот водоворот, в этот вихрь как щепку их бросит… А кто считает это истерикой, тот должен моментально исчезнуть.

— Роман Григорьевич, на вас обижаются?
— Понятия не имею.
— А вас чем-то можно обидеть?
— Конечно. Я же чувствую то мгновение, когда люди закрываются и надевают броню. Броней этой как раз и можно меня обидеть. Ну, если я к человеку во все каналы пытаюсь войти, а кругом — шлюзы, шлюзы, шлюзы…
— Но это обида немного не того рода.
— Как не того рода! Самая большая и самая страшная.
— Может, тогда конкретизируете, чтобы было понятно? Какая в вашей жизни была самая большая и страшная обида?
— Какие могут быть конкретные обиды? Есть обиды от самой природы, потому что природа бестактна, и она в такие свои сети заволакивает человека, что обмануть её нельзя. Ни обмануть, ни приостановить, ни договориться, ни сделать паузу. Старение — хочешь, не хочешь — а видишь на своих друзьях, наблюдаешь, как это всё происходит. Вот самое страшное, что может быть, вот самая сильная война против человека — творческого, прежде всего. И тогда я придумываю себе теорию, что есть обиды материальные, и есть тот возраст, который имеет отношение к материальной структуре. А у творца возраст должен быть космический, и, если это режиссёр, то ему всегда 19. Потому что каждый раз он все должен начинать сначала: ничего не знать, ничего не помнить. А только стоит человечек с пистолетом, натянута ленточка. Человечек говорит: приготовиться, на старт! Стреляет. И ты бежишь. Куда? Если задашь себе этот вопрос, ничего не будет. Ни-че-го. Надо только бежать.
Роман «чичирки» и «манюрки»
— Но вы же человек без возраста, правда?
— Я не могу так сказать, я бы хотел так сказать. Но когда в телевизоре видишь себя рядом со своими очень любимыми артистами…
— Со сверстниками?
— Да. И это так грустно, так страшно. И тогда я кричу: наезжайте, давайте крупный план, я рад с ними быть рядом, потому что… я их оттеняю. Шучу, конечно, но, к сожалению, это правда. Время — самый безжалостный диктатор. Самый! И те, кто пытаются обмануть время, остаются в дураках, у них никогда ничего не получается.

— Вы действительно человек без возраста. Но если о возрасте, то как вы его ощущаете? Рязанов, например, на этот вопрос ответил: возраст ощущается, когда завязываешь ботинки.
— Ну, это самое простое. Можно ходить в тренажёрные залы или на массаж… Я ж тебе повторяю: есть два измерения: материальное и вечное, вот откуда надо плясать. Елене Образцовой всегда 19. Алисе Фрейндлих — 14. Им не может быть больше. Вот когда они поверят, что им больше, — всё, конец! Надо закрывать дверь и кричать: «Я уже не люблю, и меня уже никто не любит!»
— Про режиссёров говорят, что заканчиваются они, извините, с потенцией.
— Ну, понимаешь, есть такие средства сейчас, что потенция до последнего вздоха не заканчивается. Есть масса удивительных вещей, и я знаю, что многие, пользуясь этим, себя ощущают прекрасно.
— Для восстановления физической потенции есть, конечно, средства. А для творческой?
— А творческая импотенция у режиссёров происходит обычно с первого спектакля. Уже видно, что человек импотент, ничем не поможешь. Молодой, старый — без разницы. По первому же опусу могу сказать — чичирка не фурычит, чичирка — только крантик для писания. И больше ни-че-го! А когда не вибрирует чичируська родная — всё! Сходи с этого поезда, закрывай дверь. И тогда уж пиши мемуары.

— Вы никогда не думали о том, что ваша режиссёрская потенция может закончиться?
— Я не только думаю об этом, а всё время перепрыгиваю. Есть две горы, а между ними — пропасть. Каждый раз нужно перепрыгивать. А перепрыгнуть можно только в 19 лет… Недавно только прочитал о спектакле «Ромео и Джульетта», какая-то умная критикесса написала — я готова поклясться, что режиссёру 19. Всё! Лучше рецензии нет. И это правда.
— А ряд театральных премий вас просто не замечают. Они не хотят верить, что вам 19?
— Я их всех отгоняю.
— Каким же образом?
— А очень просто. Много лет назад, когда Березовский основал первую премию «Триумф», они тут же ко мне кинулись, и я отмахнулся: не имею к этому отношения. И потом, когда все, кто получал от Березовского деньги, стали уже его гнобить и кричать, какой он нехороший, я сказал: «А теперь возвращайте. Вам не стыдно?» — «А мы уже потратили». — «Так если б вы не брали, — говорю, — вы бы и не тратили». Понимаешь? Я к этому не имею никакого отношения и не хочу иметь. Но у меня же есть всякие награды, которых нет ни у кого, — это Европейская премия по режиссуре, и не одна. И я единственный, у кого два звания: народный артист Украины и России. Ни у кого нет! Я же не кричу об этом.
Смайл как оружие
— Вы не чувствуете некую враждебную ауру вокруг себя?
— Нет. Я её даже не замечаю. Ну, понимаешь, если я вхожу и вношу улыбку! И всё, и смайл на смайл идёт.
— Даже когда партийные органы запрещали ваши спектакли, ничего не замечали?
— Боже упаси — я улыбался.

— Ну, тогда сложно было улыбаться.
— Спокойно можно было улыбаться. И я прекрасно ставил во всех главных театрах страны. В театрах, которые обслуживали систему. И если ты меня спросишь, как, то я тебе отвечу: не знаю. Тем более что я делал только то, что хотел. Я же первый ставил — первый! — и Петрушевскую, и Рощина, и Зорина. Вампилова я ставил первый, в городе Калинине.
Знаменитые «Служанки»
— Ваш смайл, наверное, действует на всех.
— Понятия не имею. Даже когда в министерство меня вызывали на разговор, я заходил, говорил только одно: всё знаю, не тратьте на меня время. И закрывал дверь. За мной бежали секретарши, кричали: почему вы не спрашиваете, что вам предлагают? А я отвечал: а мне ничего не нужно. И тут же шёл на Пушкинскую площадь, узнавал номер телефона начальника отдела театров министерства культуры Литвы. И голосом начальника отдела театров СССР начальнику отдела театров Литвы говорил: есть такой талант и гений, мы рекомендуем его, хотим, чтобы он приехал к вам в Вильнюсский театр главным режиссёром…
— Вы сейчас анекдот рассказываете?
— Нет. На том конце — Якученис… Он умер уже, и я ему в этом так и не признался, хотя был с ним в прекрасных отношениях. Якученис, который боялся советской власти больше, чем я, только произнес: пусть он скорее приезжает. Всё! Я выбрал, сам не знаю, почему, Вильнюс. Но когда мне было 14 лет, я видел сон, что приезжаю главным режиссёром в город, в котором никогда прежде не был. Здание я запомнил: сколько колонн, какие маски висят на фасаде. И когда я приехал туда, куда сам себя устроил, я шёл по улице Ленина, повернул направо. И увидел дом из своего сна.
— Ваша жизнь похожа на сказку.
— А я ничего не выдумываю. Это выдумать нельзя. В той системе нельзя было выжить без улыбки. И без света. Схватить свет они не могли… Или, скажем, университетский театр МГУ. На улице Герцена, кремлёвская стена рядом. У меня лежит пьеса «Уроки музыки» Петрушевской. Которую не то что не разрешали — никто из вышестоящих даже читать не хотел, вообще держать в руках. Я пришёл и сказал этим академикам, профессорам, докторам наук и студентам: вы согласны репетировать и играть без разрешения? И мы репетировали. И мы играли. Под стеной Кремля говорили о болезнях системы. Другой вопрос — что театр на мне, на том спектакле закрыли вообще. А это был самый знаменитый студенческий театр. Ролан Быков в нём начинал, Роман Виктюк его закончил. От Ролана до Романа… Но был такой успех!
— Та система, она же могла и погубить, правда? Вы могли закончить бог знает где…
— Конечно! Когда они говорили, что в спектакле «Коварство и любовь» Шиллера есть неконтролируемая ассоциация. Великому итальянскому артисту Мастроянни, который приехал в Калинин с группой снимать «Подсолнухи», так понравился спектакль, он кричал: «Дженио!» А я решил, что он называет меня «Евгений», говорил, что я Роман. Понимаешь? Всё это было. Партия сказала: если капиталисту нравится, значит, есть неконтролируемая ассоциация.

— А было такое, что ещё один шаг, и вас могли погубить?
— Конечно. Каждую секунду. Ведь что такое счастье? Счастье — это пауза между двумя несчастьями. Впереди и сзади. Всё! А ты только эту паузу должен заполнять своей прозрачностью, а не чернотой. Не мыслями о том, чтобы достичь каких-то карьерных успехов. А я ставил только те пьесы, которые мне были по душе. Ни одного спектакля я не поставил для них — только для себя.
— Раньше режиссёры говорили: три для себя, один для них.
— А в итоге все четыре для них, а для себя ничего. Это всё я прошёл… 72-й год, 50 лет со дня образования СССР. Ефремов мне звонит: «К дате надо поставить спектакль, только ты знаешь, что нужно, через месяц мне скажешь». Я говорю: «Зачем, я сейчас скажу — Франко, «Украденное счастье». Он удивился: «Это тот испанец?» Я постарался объяснить, что это всё-таки великий украинский драматург и поэт. И он согласился.
— Ничего себе — нашёл, кого спрашивать.
— Да, и правильно нашёл. Вечером, в день премьеры приезжает Политбюро на спектакль — афиша: «К 50-летию образования СССР. Спектакль «Украденное счастье». Ефремов сказал мне: «Ты нас всех в тюрьму отправишь».
— Это ещё одна фантастическая история. Но у Ефремова была своя манера общаться с руководством, он мог и матюгнуться, и сказать Фурцевой, что она тормоз на пути прогресса. И ему за это ничего не было. Вы ведь не могли себе этого позволить?
— Ты с ума сошёл! Нет, конечно. У меня была только улыбка.
Аура одиночества
— Вы сказали, что вражды вокруг себя не замечаете. А что же за детективная история с вашим театром? Это разве не враги?
— Это другое, это борьба за материальные ценности, за землю.
— Сколько она уже длится?
— Десять лет. Но уже кончено — Лужков всё подписал, деньги дали. Проект уже утвержден, и проект замечательный…
— Но ещё год-два назад…
— Да, на директора нападали, на меня нападали. Но что мне сказал нейрохирург, а он сказал потрясающе! Это был солнечный день. Замечательный! Я выскочил на лестничную клетку. И такое сияние от меня шло. Потому что я знал, что иду репетировать, знал, какую сцену… И хирург говорит: от вас шла такая энергетика, что их рука не посмела сделать то, что они должны были сделать.
— А вы не испугались?
— Даже не могу сказать, когда. Даже когда был в реанимации, всё равно я репетировал в голове то, что я недорепетировал. Понимаешь? Такая вот живучая профессия. Это меня и спасало.
— Но вы тогда, насколько понимаю, наняли себе охрану.
— Боже упаси! Какая охрана? Да я бы с ума сошёл. Я ненавижу это, чего я, больной, что ли?
— Охрана ведёт объекта везде и всюду. Насколько вы можете впустить человека в свою жизнь? Вам не нужны люди рядом?
— Как не нужны? Наоборот. Вечер, дача, открыта форточка, горит свет. Бабочки же летят. И студенты, которые приходят ко мне учиться, и есть эти бабочки. Они фантастические совершенно. И в «Ромео и Джульетте», а теперь и в «Чайке» играют феноменально.

— Но это бабочки, которые летят в открытую форточку. А у вас же наверняка есть окно, которое наглухо зашторено.
— Зачем? Нет никакого у меня окна глухого. У меня есть музыка, которая звучит. И которая охраняет.
— А семья у вас есть? В обычном, прозаическом смысле?
— Есть. В другом городе. Во Львове.
— Рядом они вам не нужны?
— Они приезжают, когда хотят. Вот сейчас, например, приезжают.
— Извините, а дети у вас есть?
— Есть. Дочка. Во Львове. Всё чудно, учится, всё хорошо… Понимаешь, в чём вся беда? Почему их всех надо держать на расстоянии? Идёт энергия отрицательная. И если в тебя она не попадает, то бьёт по близким, по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают. И только удивляются потом: не болел, не болел — и вдруг — А я говорю: потому что был удар. Вы смогли защититься, и этот удар пошёл на человечка рядом.
— Можете сказать, что вы одинокий человек?
— А у творца, если он не создаёт вокруг себя ауру одиночества, у него нет той среды, которая его питает. И нужно заполнять эту пустоту, которая у Хайдеггера или у Юнга и является самой целебной средой.
— Знаю, у вас квартира с видом на Кремль. Уютно вам в ней?
— Да. Входишь: слева — музыка, справа — музыка, сверху — картины, сбоку — картины. Ты идёшь через анфиладу выбросов человеческого духа. Зафиксированных. Даже молчащий компакт-диск содержит энергию композитора и исполнителя. Книги, компакт-диски, ноты, картины — всё, ничего другого нет и не нужно. Это те подлинники, та энергетика, которая сквозь окна и стены просвещает. Вот ты не веришь. А это правда…