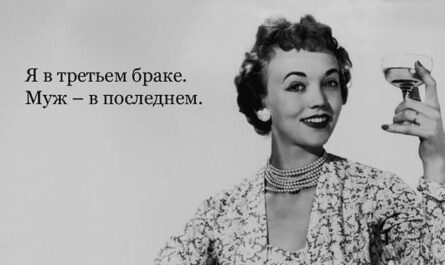Геннадий Трифонов — родился в 1945 году в Ленинграде. Окончил русское отделение филологического факультета ЛГУ. Преподает в гимназии английский язык и американскую литературу. В 1975 году за участие в парижском сборнике откликов на высылку из СССР Александра Солженицына был репрессирован и в 1976-1980 гг. отбывал заключение в лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух романов, вышедших в Швеции, Англии и Финляндии, и ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался в журналах «Время и мы», «Аврора», «Нева», «Вопросы литературы», «Континент». Живет в Петербурге.
“Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность”
Иосиф Бродский, 1980 год.
Те, кому доводится разговаривать с моей матерью по телефону, когда она вместо меня поднимает трубку, удивляются ее сильному и все еще молодому голосу. Поэтому мне часто приходится выслушивать:
— Вы, верно, преувеличиваете возраст вашей мамы. Человеку под 90, а в мыслях такие ясность и легкость, словно она у вас прожила не в этой стране, а где-нибудь на берегу Женевского озера. Что-то здесь не так…
— А как? — любопытствую я.
— Не знаем как, но знаем, что не так.
А недавно мать в очередной раз посетил наш участковый врач, Зассыхин, В.П. — фамилия натуральная — и задал ей свои обыкновенные вопросы: “На что вы, бабушка, жалуетесь? Что вас беспокоит?”. И услышал в ответ: “На правительство и погоду. А беспокоит, доктор, рост мозолей и антисемитизма”.
Ко всему на свете привыкший доктор посоветовал:
— Мозоли смажьте каким-нибудь питательным кремом. — И добавил: — А насчет антисемитизма — это не ко мне. Меньше телевизор смотреть надо. Всяких глупостей насмотритесь, потом жалуетесь. Вы, больная, очень впечатлительная.
— Это у меня с детства, — с ноткой извинения успокоила мать несчастного участкового врача. И тот удалился до следующего визита.
С детства и начнем.
Впервые и самостоятельно моя мать, Трифонова Екатерина Андреевна, 1914 года рождения, приехала в Ленинград из дальней своей деревеньки на севере Вологодской области совсем еще ребенком в 1927 году по направлению тамошних врачей для лечения травмированного крестьянской работой глаза.
Остановилась она у своей родной тетки по отцу Серафимы Трифоновны Макаровой в одном из домов Столярного переулка, в большой коммунальной квартире, в результате уплотнения которой тетка вместе с пятью дочерьми и мужем-инвалидом занимала две крохотные комнатенки. Глаз кое-как подлечили, и тетка поспешила через месяц отправить племянницу обратно в деревню.
— Я тогда и город-то не разглядела как следует, — рассказывает моя мать, — И никак не думала, что скоро опять сюда вернусь и проживу целую жизнь со всеми ее ужасами и радостями. В блокаду выжила — помогли добрые люди. А в деревне-то точно померла бы к 30-му году уже. Такое началось тогда, что не приведи Господи…
В 29-м году на подворье к моим деду и бабке пришли местные агитаторы-активисты “добровольно” записывать в колхоз. К тому времени деду уже нарезали его три га земли, и он — при наличии лошади и семилетней уже старшей дочери и жены — оставался в уверенности, что землю свою обработает и кое-что на ней вырастит. А коль стал он единоличником и в колхоз не пошел, очень скоро неутомимые активисты вновь его посетили “для обложения налогом на избу, на лошадь, на землю и будущий урожай”. Они и увели со двора лошадь Мальку, из крохотного амбара повыскребли остатки зерна, разорили мельницу, на гумне подожгли сено, повытоптали огород, оставив многодетную семью крестьянина без всяких средств к существованию.
Дед мой, Андрей Трифонович, был человек отчаянный, поэтому, взявшись за топор, стал призывать к топорам и других мужиков своей и соседней деревни Огрызово. Соловков избежал потому только, что, во-первых, деревня их, Чуниково, от уездного центра Бабаево удалена была на сто верст, а во-вторых, мужики сильно к вечеру того дня напились — видимо, с горя, — и восстание не состоялось.
Наши историки преступно мало знают и говорят о 20-х годах. “А на самом деле, — пишет в своих “Воспоминаниях” Н. Я. Мандельштам,— двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего” (Кн. 1-я, стр. 176). И это будущее уже вырисовывалось за порогом “года великого перелома” (1929). Вот что читаем мы сегодня у английского историка Роберта Конквеста в его “Большом терроре”: “Уже в 1930 количество коллективизированных крестьянских дворов увеличилось с 4 до 14 миллионов. Более половины всех крестьян было коллективизировано за 5 месяцев. Против коллективизации бросились в борьбу, вооруженные чем попало. Вооружались обрезом, колуном, кинжалом, финкой. Крестьяне предпочитали скорее резать скот, чем отдавать его в руки государства. Калинин, Орджоникидзе и другие члены политбюро выезжали в провинцию и, по-видимому, привозили правдивые отчеты о катастрофическом положении деревни. Однако Сталин к этим голосам не прислушивался, упорно проводя в жизнь так называемую новую политику”. И там же: “Четверть века спустя Хрущев сообщил миру, что Сталин не бывал в деревне с 1928 года. Для него вся коллективизация была чем-то вроде кабинетной операции” (т. 1, с. 36, 58).
Но и это еще не все. На фоне коллективизации приступлено было и к борьбе с народной религиозностью. В местах обитания моих предков было запрещено богослужение в девяти церквах. И, как вспоминает моя мать, для срыва службы арестовывали священников.
— Огрызовский школьный учитель Василий Игнатьевич Тихонов, — рассказывает мать, — предложил ученикам ходить по домам, собирать иконы и распространять слух, что владельцы икон будут облагаться налогом. Целые деревни вызывали друг друга на соревнование — кто больше и быстрее закроет церквей. А наш председатель сельсовета сопровождал в Вологодскую тюрьму арестованного священника, отца Киприана. Заспорили они по религиозным вопросам. В результате нервы у председателя не выдержали этого спора, и он отца Киприана застрелил. А бабушка Акулина все наши иконы попрятала на бывшем нашем огороде. Иконы хороши были, старого еще письма, в серебре.
— Это ведь всё русские русским делали, — добавляет мать. — У нас, окромя заезжих цыган нищенствующих, никаких иноземцев не водилось. Немцев или китайцев близко не бывало, а уж об евреях и не говорю. Народ всё кругом наш, православный, вперемешку с нашими же новыми русскими безбожниками.
Дедушка мой, после опохмелки от несостоявшегося бунта, обратившись к моей матери, решил так: “Как ты у нас, Катёшка, самая старшая, так тебе в работу пора, в город. Хоть ты там уцелеешь, а мы тута — с Божьей помощью — ковыряться будем”.
Утром следующего дня Катёшка послана была “тятенькой” в Огрызово к единственному “знающему грамоте” дяде Ермолаю — свояку моей бабушки Акулины — с просьбой “отписать письмо в Ленинград к Серафиме, чтобы та пристроила племянницу в городе в люди”. И 2 марта 1930 года — в день появления в “Правде” знаменитой сталинской статьи об уроках коллективизации “Головокружение от успехов” — Катешка снова ступила на деревянную платформу бывшего Николаевского вокзала.
В течение двух месяцев тетя Сима (так по-городскому звали теперь Серафиму Трифоновну), работавшая тогда в столовой при какой-то новой советской конторе, откармливала девочку. Однако “за малолетством” никакой работы для нее не находилось.
— Ежели, Катюша, к месту не определишься, надо тебе в деревню возвращаться. Мне шестерых-то тащить — сама понимаешь. А брат Андрей рукодельный — корзины да короба плетет, вот и будешь возить их на продажу в уезд. — Но подумав и вспомнив о причинах явления Катёшки в Столярном переулке, сказала: — Только возить-то на чем? Кобылу со двора свели. Да и кому ноне короба-то нужны? Что в них, в коробах-то, держать ноне? Ладно, ищи места.
Катюша сильно приуныла и пошла искать места. Встала у входа в булочную, что и в наши дни находится на углу Гражданской и Вознесенского проспекта, как раз у самого канала Грибоедова. И стала спрашивать входивших: “Вам, тетенька, няня к ребенку не нужна?”
В один и в самом деле замечательный майский день из булочной вышла прилично одетая дама лет сорока. Увидев девочку, она заторопилась вложить в ее ручку слойку и пару бубликов, приняв стоящую за обыкновенную нищенку.
— Я, тетенька, сытая. Мне места надо. Вам няня к ребеночку не нужна? Я с робятами могу управляться. Нас у мамы трое, и я всех троих тащила в деревне-то. Возьмите меня.
— А сколько тебе лет, девочка? Десять скоро? Кошмар! А где ты живешь? — спрашивала “нищенку” дама.
— Я? Тута. В Столярном, в седьмом доме, у тети моей — у тети Симы. У Серафимы Трифоновны, — уточнила девочка, прочтя на красивом лице дамы некую задумчивость.
— Это меняет дело, — улыбнулась дама. — Мы живем в доме 11, квартира во втором этаже, вход с парадного. Приходи утром. Звонок дерни посильнее, а то я в дальних комнатах могу и не услышать. Я тебя буду ждать, девочка. Нам няня очень нужна. Непременно приходи.
— Я приду! — радостно вскричала Катешка и побежала докладывать тете Симе о найденном месте.
По такому случаю тетя Сима пошла в Гостиный двор купить племяннице новенькое платьице — “из ситчика с рюшечками, по белому полю все синие васильки”, “чтобы было в чем в люди выйти”. И на утро следующего дня Катюша уже дергала со всей силы звонок квартиры, на дубовых дверях которой висела медная табличка: “Инженер-химик Вениамин Захарьевич Мельтцер”.
Помнится, такими табличками были отмечены тогда все почти квартиры старого города, в которых обитали семьи тогдашней промышленной интеллигенции. У меня до сих пор хранится такая табличка с дверей нашей коммуналки в доме на Большой Подъяческой: “Инженер-механик Александр Маркович Фриндлендер” изящного старого витиеватого шрифта. Сам Александр Маркович погиб в блокадном Ленинграде, потому что ввиду преклонных лет и полного истощения выехать из города уже не имел сил. А дочь его, Жозефина Александровна, была моей первой учительницей. Когда мне потребовались очки, а матери моей купить их мне было не на что, Жозефина Александровна мне их раздобыла. Это ей в конце 50-х читал я свое самое первое стихотворение.
Хозяйка большой и богато обставленной квартиры встретила Катюшу приветливо и сразу объяснила ей ее новые обязанности. В них входило быть неотлучно при годовалой Тамарочке, жить с ребенком в одной комнате, гулять с ней в Юсуповском саду, кормить ее уже приготовленной пищей, стирать ее детские вещи, а летом выезжать на дачу в Сиверскую.
— Зовут меня Александра Львовна. Мужа… Там на дверях написано. Читала?
— Я грамоте еще не умею, — призналась Катюша, потупившись.
— Ах, понимаю, Катенька, понимаю. Извини. А вот учиться тебе надо, раз ты в большой город приехала. С осени пойдешь в школу рабочей молодежи. А за лето я тебя читать-писать выучу — это просто. Ты чай-то пей, бери варенье, не стесняйся. И вообще, когда кушать захочешь, на кухне, между дверей, все стоит. Бери, не спрашиваясь. Мой муж — директор большого завода в Чудове. Нас продуктами снабжают. Так что ты ешь, не стесняйся. А на даче — и ягоды в саду. Так что мы с тобой будем варить варенье.
По всему было видно, что Катенька Александре Львовне нравится все больше и больше. Поэтому она за чаем, который сама для девочки накрыла в столовой и разлила из сервизных заварных и иных чайников в восхитительные чашки старинного фарфора, а варенье клубничное подала в изящных розетках (по воспоминаниям моей матери, управляться с вареньями надо было тонюсенькими серебряными ложечками, каких она и не видывала прежде), заочно познакомила девочку с семьей:
— У нас с Вениамином Захарьевичем два сына — Натан и Кива, но ты можешь называть его Колей. Им по 19 лет, и они только что поступили в медицинский. Моя средняя дочка — Фридочка, она учительница. А младшая Ася и ее муж Боря — как раз и являются родителями Тамарочки. Завтра воскресенье, и ты всех их увидишь в Сиверской. Жалованье тебе будет десять рублей в месяц. С питанием. А к праздникам — к Пасхе и к Новому году — прибавка, и ко дню твоего рождения. Так, Катюша, у нас положено. Всю необходимую одежду мы тебе сами купим. А сейчас отдыхай. Тете твоей я позвоню, не волнуйся.
— У Мельтцеров я прожила счастливо почти шесть лет, до конца 35-го года, — продолжает мать свой рассказ. — Тамарочка очень ко мне привязалась, да и вся семья. С хозяином, правда, я почти не общалась, да и когда? Уже в семь утра за ним приезжал его шофер и возил его в Чудово, на его завод, а привозил очень поздно. Так что я общалась преимущественно только с хозяйкой. Она, конечно, не работала, но давала уроки игры на фортепьяно деткам своих знакомых, и делала это, надо сказать, совершенно бесплатно, для собственного удовольствия.
У Александры Львовны научилась я еврейской кухне. И через год уже понимала их речь между собой, а вскоре и сама заговорила на их языке. Александра Львовна и Вениамин Захарьевич с сыновьями часто брали меня с собой в театры, на концерты. Первоначально я надевала туда Фридочкины платья, но к Новому году мне подарили платье из панбархата, глубокого лилового цвета, и модельные туфли, и шубку из серого кролика. Я ведь уже барышней стала. У Мельтцеров была большая домашняя библиотека. Уложив Тамарочку, я стала много читать. Через день ходила в вечернюю школу, и Фрида занималась со мной русским и математикой. А по воскресеньям, когда у хозяина было настроение, он требовал, чтобы я читала ему вслух заданные мне в школе упражнения по немецкому. Ему очень нравился мой вологодский выговор, поэтому он редко поправлял меня в немецком произношении, делая упор на грамматику. Еще помню, — добавляет мать, — что когда в Ленинград из Москвы приезжала знаменитая пианистка Мария Юдина, она всегда или останавливалась у Мельтцеров, или непременно их навещала. И тогда в нашу большую столовую набивались люди — послушать Юдину. И в ее честь устраивался ужин для узкого круга. Из знаменитых тогда писателей у нас бывали Зощенко, Маршак, профессора Эйхенбаум и Тынянов. Для них Юдина играла Шопена, еще кого-то. Шумных застолий у нас никогда не бывало, но принимали всегда достойно. Для помощи на кухне Александрой Львовной всегда приглашалась моя тетя Сима. Она пекла к чаю замечательные пироги с капустой и сладкие — с яблоками вперемешку с брусникой. Александра Львовна умела печь только плюшки и печенье с корицей. А пироги не умела. Поэтому и я не научилась. Тете Симе-то не до пирогов было.
Читать и писать я выучилась за одно лето в Сиверской, — продолжает мать. — И там же начала читать моей Тамарочке журналы “Ёж” и “Чиж” и сказки, конечно. Эти детские журналы были очень забавные, с великолепными рисунками, и цветными, и черно-белыми. В них было много стихов. В Сиверской Мельтцеры снимали большую дачу, и часто к ним из города и из Луги приезжало много гостей. На дачу вывозился рояль Александры Львовны, она продолжала давать уроки детям дачников и сама играла для гостей. Играла она изумительно. Лето 34-го было жарким, почти без дождей. От жары трещали сосны, и только вода в коварной Оредежи постоянно оставалась студеной и для купаний не всегда подходящей. В город мы возвращались самыми последними, уже в начале сентября.
Жизнь представлялась мне прекрасной и счастливой. У меня даже получалось из скопленных денег посылать два раза в год родителям в деревню. Но в самом конце 34-го нагрянула первая в моей жизни беда.
Как известно, 1-го декабря в пятом часу пополудни убийца Кирова, некто Николаев, проник в Смольный. И, если цитировать классика, “и всё заверте” (цитата из Аверченко).
С убийства Кирова в стране начинается пресловутый Большой Террор.
Читать далее:
http://magazines.russ.ru/continent/2002/111/trif.html