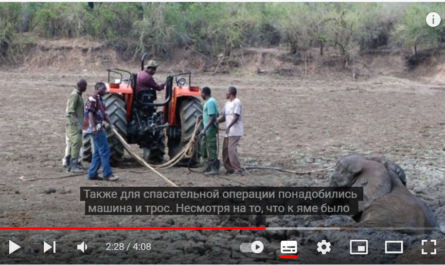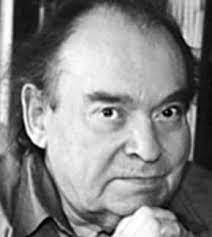Легенда, звезда, один из немногих живущих русских, прочно вошедших и в пантеон великих, и в западное подсознание (там говорят «балет» – подразумевают Барышников). Никто из российских артистов не достиг таких вершин популярности, известности, всепроникаемости, таких гонораров и такой вселенской любви.
Да, он уже давно не танцует классику, да, 27 января ему исполняется 75 лет. Но он по-прежнему востребован. Бесконечно много выступает, гастролирует. Почти каждый сезон у него новые спектакли. Уже одно его имя на афише способно гарантировать аншлаги и толпы у артистического входа.
Причем это не «чес» по провинции с воспоминаниями о былых заслугах, не сомнительные ветеранские «гала-концерты» в расчете на ностальгические всхлипы состарившихся поклонников, а серьезные, оригинальные и абсолютно некоммерческие проекты без малейшего привкуса нафталина.
В нью-йорском Центре искусств, который Барышников открыл после того, как распустил свою труппу ОАK (White Oak Dance Project), все время что-то происходит, идёт какая-то очень интенсивная жизнь: новые коллективы приезжают и уезжают, постоянно мелькают молодые лица, проходят авангардные перформансы, устраиваются однодневные выставки и мастер-классы. Кого-то Барышников спонсирует сам, кому-то предоставляет площадку, с кем-то вступает в более серьезные и длительные профессиональные отношения. Не начальник, не звезда, не гуру – обычный труженик, работяга. Собранный, энергичный, доброжелательный.
Про него рассказывают, что в любом углу он может расстелить коврик, чтобы проделать свой ежедневный тренинг – хитроумную комбинацию из балетного экзерсиса и йоги. Юные артисты, случайно забредшие в репетиционный зал, вначале пугались при виде живого Барышникова, выполняющего какие-то пасы и телодвижения в ношеных трениках. Потом привыкли.
У себя в центре он может запросто заглянуть к кому-нибудь на мастер-класс или лекцию и, если нет свободных мест, усесться на пол рядом со студентами. И будет очень возмущаться, если кто-нибудь попытается уступить ему свое место. А если надо что-то переставить на сцене, всегда первым бросается помогать рабочим.
Дмитрий Крымов рассказывал мне, как однажды на репетиции ему понадобился скотч. Барышников не понял: «О, у меня дома есть отличный, недавно подарили. Я обязательно принесу». Потом выяснилось, что речь идет не о виски, а о клейкой ленте. Он тут же где-то ее раздобыл, а на следующий день и виски принес. Обещал же!
И все было бы замечательно, если бы не одно обстоятельство: Барышников никогда не общается с российскими журналистами. Все мои коллеги хорошо знают, что соваться к нему с просьбой об интервью бессмысленно. Какие только ходы не предпринимались, какие связи не задействовались, все напрасно. Серые глаза становятся ледяными. Рот сжимается в презрительную щель, на лице проступают сразу все морщины. И в таких случаях лучше к Барышникову не приближаться.
Что это? Нежелание подпускать к себе тех, кто кормится за счет чужой жизни и славы? Опасения, что слова его будут искажены или, того хуже, перевраны? А может, застарелый страх, живущий в нем еще со времен разных отделов кадров, ЖЭКов, ЖАКТов и прочей совковой гэбни, под присмотром которой он прожил свои первые двадцать семь лет?
Могу только предположить, что в его жизни могла быть какая-нибудь страшная клятва, которую взял с него кто-то очень умный и знающий и которую он еще ни разу не нарушил. А может, дело в злополучном письме, подписанном известной балериной, его партнершей, которое он получил через несколько месяцев после того, как остался.
Там были четкие заверения и гарантии, что если он вернется в СССР, то будет немедленно прощен и получит все, что пожелает. Он тайком покажет это письмо Майе Михайловне Плисецкой, тогда гастролировавшей в Нью-Йорке. «Это КГБ, Миша, – скажет Майя, хороша знакомая с почерком головной организации. – Они тебя убьют».
Впрочем, с западными журналистами Барышников время от времени общается. А в 1986 году даже выпустил в качестве приглашенного редактора новогодний номер французского Vogue. Так что журнально-газетный жанр ему совсем не чужд. И к Ларри Кингу он ходил на программу. И к Чарли Россу. Словом владеет вполне. Лучше многих балетных.
Вся жизнь Барышникова последних сорока лет расписана по дням, месяцам и сезонам. Его увлечения, его балеты, его женщины, среди которых было несколько эпохальных див, – все это такой длинный роман, который так и просится стать захватывающим сериалом. Туда обязательно должны были бы войти эпизоды Первого конкурса артистов балета в Москве. До сих пор вижу его Корсара в чалме с пером, победительно рассекавшего воздух. Или как он потом из рук Галины Сергеевны Улановой получал Первый приз.
Как завидовал я тем, кто мог позволить себе смотать на один вечер в Ленинград, чтобы посмотреть Барышникова в «Дон Кихоте» или «Сотворении мира».
А в августе 1974 года я у себя на даче в Болшево, сквозь все помехи и глушилки ловя «Голос Америки», услышал ликующие интонации Александра Гольдберга из Вашингтона: Барышников остался, он скоро будет в США, мы скоро его увидим… И такая тоска подступила к горлу. Все-таки остался! Значит, больше мы его здесь никогда не увидим.
А потом был подробный репортаж все по тому же «вражескому голосу» о «Жизели» в Метрополитен, где его партнершей стала Наталья Макарова. Тогда на финальных поклонах весь Нью-Йорк неистовствовал и плакал от счастья, а она, склонившись в глубоком реверансе, бросила к его ногам букет белых роз – это был как штандарт, победно взвившийся над королевским дворцом. Да здравствует новый Король!
Спустя двадцать лет я буду ехать в поезде Москва-Ташкент и слушать нескончаемый монолог Наташи о том, как она оставила балет из-за «Мишки»! Это он ей сказал, что пора уходить, что на былой славе не проедешь, что дальше будет хуже, что ей нельзя унижаться, выпрашивая милости у публики.
Ты – гордая женщина, ты великая, и еще что-то в этом духе, что всегда говорят мужчины, перед тем как отрубить бывшей подруге голову. А Макарова была не просто подругой и соратницей, но первой после Анны Павловой русской прима-балериной, сделавшей себе имя и карьеру на Западе. Полдня она прорыдала после этого разговора с Барышниковым, сидя на каменных ступенях перед фонтанами на площади у Метрополитен-Опера.
Но в 1974 году их было трое, поделивших королевство западного балета, – Миша, Наташа и, конечно, Руди, Рудольф Нуреев. Три кировских этуали, три великих русских невозвращенца, три грандиозных танцовщика, перевернувших все представления об искусстве балета. По странному совпадению, все трое были из семей военных. Они не понаслышке знали, что такое военная муштра, дисциплина, душный запах тяжелых, пропитанных дождем и снегом суконных шинелей и пахнущих ваксой сапог.
А тут еще балет, самый крепостной из всех родов искусства. Им было от чего бежать, перемахивая через все границы, заграждения и турникеты, через все обязательства и запреты. На волю, , на простор свободного танца, на простор другой жизни, о существовании которой они только догадывались, но ничего толком не знали.
Бедные дети коммунальных квартир, они впервые почувствовали себя богачами: теперь им принадлежал весь мир. Отсюда нуворишеский размах их славы, ненасытная жадность до новых ролей, балетов, стран, впечатлений. Они хотели все попробовать, пережить, испытать, купить. Что-то было в их танце непостижимое и завораживающее для рационального западного сознания. «Чистая метафизика тела» – скажет Бродский о Барышникове. Не только! Освобожденный дух ликовал, радовался и рвался куда-то далеко за пределы балетной сцены. Энергия миллионов людей, у которых был отнят этот простор, питала их искусство.
Это был танец у последней черты, на пределе представлений о гравитации и физических возможностей тела. Это была победа над прошлым, которое они ненавидели и которого стыдились, над всеми страхами и предрассудками, которые продолжали в них жить, над самими собой, ставшими родными и близкими для многих тысяч людей, никогда раньше не бывавших на балетных спектаклях..
Миша, Наташа, Руди – великая русская троица 70-х, мечта любого балетомана и кошмар для любого продюсера, который попытался бы свести их на сцене. Как бывшие советские люди, они не очень-то ладили друг с другом. Плисецкая со смехом вспоминала, как на приеме в честь гранд-дамы американского балета Марты Грэм разразился скандал, когда Нуреев вдруг ни с того ни с сего плеснул вином в лицо грэмовского директора, важного господина, ведавшего рассадкой гостей. «А что это с Руди?» – поинтересовалась Майя у Барышникова. «Он просто обиделся, что вас посадили со мной, а не с ним», – невозмутимо отвечал Миша.
Его трудно было шокировать нуреевскими эскападами. Наверное, из всей троицы Барышников был самый адекватный, самый прагматичный, самый западный. И самый взрослый, хотя по возрасту и самый молодой. К тому же он не был гей. Для пуританской Америки это было важно. Кажется, это была его шутка: «I am not the first straight in ballet, hope not the last» («Я не первый натурал в балете и надеюсь, что и не последний») . Барышников лучше и быстрее сумел приспособиться к новым условиям. Он сразу понял, что на одной классике долго не продержишься, что надо пробовать себя в разных жанрах. Что экстравагантные, «славянские» жесты, которые так удавались Руди, это не его стихия, да и они могут, в конце концов, прискучить всем.
Он брал другим: фантастической координацией, находчивым юмором, какой-то чаплиновской самоиронией и отвагой. Он был очень смелым танцовщиком, потому что никогда не боялся быть смешным и трогательным на сцене.
Он всегда любимый младший брат, которому позволено все, или Блудный сын, которого хочется поскорее простить, напоить чаем и уложить спать. Барышников станцует его в 1973 году на сцене Кировского театра. Станцует, как говорят, гениально. И, наверное, неслучайно знающие люди считают, что неуспех у официальной критики и последовавший потом запрет балета Баланчина, стали последним и решающим аргументом в его решении не возвращаться в СССР.
И он так и не вернулся. Хотя после 1988 года приглашения выступить в России поступали Барышникову регулярно. И на самом высоком уровне. И обещания, и гарантии, и выгодные предложения. Отказывался. Ему это не надо. Друзья недоуменно разводили руками. Балетоманы строили самые фантастические предположения. Кто-то припоминал строчку из Бродского, написанную все по тому же поводу: «Воротишься на родину. Ну что ж…Гляди вокруг, кому еще ты нужен».
Только теперь понимаешь, как Барышников был прав.
…И все-таки он приехал. Нет, не в Питер, а в родную Ригу. Первый раз это случилось в 1997 году. Латвия была уже пять лет свободной, хотя примет бывшей советской жизни было еще предостаточно, и никто особо не спешил их скрывать или как-то камуфлировать. Во всем чувствовалась сонная, замедленная растерянность, какая бывает при долгом пробуждении после тяжелого сна. Как будто в рапиде падали осенние листья в сквере перед зданием Национальной латвийской оперы. И в том же ритме двигались люди по улицам, и так же капал дождь с неба. На афише имя Барышникова, уникальная сольная программа, но билеты в кассе я купил спокойно. Никакого ажиотажа. Я представил себе, что бы было в Москве или в Петербурге, случись такое! Это потом я узнал, что по латышским расценкам билеты были баснословно дорогие, и мало кто из местных балетоманов мог их себе позволить. При том, что спектакль был благотворительный, а сам Барышников, кажется, не получил за него ни лата. Тогда ещё были латы.
Я приехал в Ригу на день раньше, делать было решительно нечего, и чтобы как-то убить время, отправился в Домский собор, где, как всегда, играли Баха и Генделя – знакомую органную программу со времен моих летних юрмальских каникул.
Народу было мало. Только какая-то явно на вид иностранная семья оккупировала соседнюю от меня скамью. Я пригляделся: мама, хрупкая блондинка с тонким и нервным лицом, дочь-подросток в свободным шальварах, сидевшая с обиженным надутым видом, блондинистый мальчик, безучастно скучавший на руках у матери, и отец в бежевом плаще и профессорских очках в серебряной оправе. Где-то я уже видел этот коротко стриженый затылок, острый профиль, запавшие грифельного цвета глаза. …
Барышников!
Он и сидел через проход от меня, погруженный в музыку или в собственные мысли. Абсолютно отъединенный от всех, ушедший в себя. Мне потом сказали, что в этот день он ездил на кладбище, посетил вместе с семьей могилу матери. Она покончила с собой, когда ему было 11 лет. Никто не знает, почему. Официальная врачебная версия: «Внезапное помешательство». Свою старшую дочь от Джессики Ланж (ту самую, которая явно была чем-то недовольна тогда, в Домском соборе) он назовет Александра, Шура, в честь мамы.
Сейчас она уже совсем взрослая. И у нее есть собственные дети, соответственно, внуки Михаила Барышникова. Род не оскудел, линия, начавшаяся с маленькой кроткой женщины Александры Киселевой из села Кстово, что под Нижним Новгородом, продолжается на других широтах, во внуках и правнуках, которых она никогда не видела. Она и сына-то своего ни разу не видела на сцене, хотя сама отвела его в балетное училище при театре, мечтая для него о другой жизни, чем у нее.
Свой сольный вечер в Рижской опере он посвятил ее памяти. Два часа один на пустой сцене, наедине со всеми демонами, со своим прошлым, со всеми этими рижскими тенями и дождливой мглой, в которую он добровольно вернулся. Даже не очень понятно, зачем?
Об этом знал только он. И каждое его движение было исполнено такой невыразимой муки и одновременно такой странной, волнующей красоты, что хотелось плакать, глядя на него. И многие в зале не пытались скрыть слез.
Почему-то больше всего запомнилось, что на сцене было темно, но в глазах Барышникова сверкал свет. Свет и мрак, страх и ярость, взлеты и падения – все было в этом танце. А еще, я слышал, как бьется его сердце. Это не фигурально, а буквально так. Один из номеров программы так и назывался – «Биение сердца»: к его груди был прикреплен специальный датчик, и он танцевал в мертвой тишине зала под стук собственного сердца. И в какой-то момент, казалось, что этого нельзя вынести, что клапаны сердца захлебываются от крови и нечеловеческого усилия, но он продолжал танцевать, и танцевал долго, будто сражался с кем-то невидимым, которого так и не сумел победить.
А в финале он медленно уходил во тьму, и его самого уже не было видно, но сердце продолжало биться. И еще какое-то время мы прислушивались к тому, как оно бьется, как прислушиваемся у дверей, чтобы узнать, не происходит ли там что-нибудь ужасное. И вдруг все. Звук исчез. Сердце остановилось. Рядом со мной вскрикнула женщина. Было понятно, что это больше, чем театр, больше, чем танец. Это было какое-то видение судьбы, а точнее, сама судьба.
Впервые я увидел артиста, способного реально изменить чужую жизнь. Мне стали понятны все эти люди, которые объединяются в клубы фанатов, чтобы ездить за своим кумиром по городам и весям, коллекционировать его изображения и собирать вырезки из газет, обмениваться последними новостями, дежурить у его подъезда, находя какую-то особую сладость в этих многочасовых ожиданиях под дверьми в любую погоду и в нечаянных, случайных встречах.
Всегда воспаленные, возбужденные, приходящие в театр, как на работу, живущие своей тайной, странной, катакомбной жизнью. Но зато им есть, кому служить, на кого молиться, кому поклоняться.
Всем известно, что свою клаку многие артисты содержат сами. Подкармливают их, иногда что-то приплачивают, дарят вышедшую из моды свою одежду, могут при случае расщедриться на автограф или организовать бесплатный проход на свои спектакли. Но такие отношения не из репертуара Михаила Барышникова.
Не станет он никому платить за то, чтобы ему кричали «браво» и хлопали в нужных местах. Не будет он никому специально улыбаться. А контейнеры с поношенной одеждой до последнего времени он регулярно отправлял в благотворительной фонд Армии Спасения. И даже как-то признался, что может легко расстаться с любыми вещами, кроме книг.
Он и сделал это, передав весь свой огромный архив Нью-Йоркской Публичной библиотеке. А на вопрос журналиста: «Но вы ведь могли все это продать?» – только недоуменно пожал плечами: «Продать что? Мою жизнь? Но именно этим я занимаюсь на сцене».
Sergey Nikolaevich
/КР:/
Прекрасно передан образ Барышникова – великого артиста и человека…/