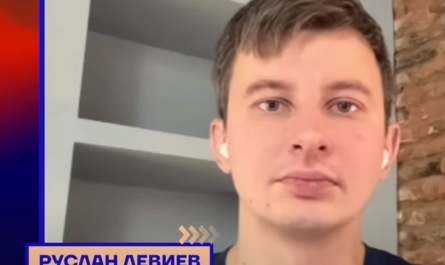Все чаще и чаще там попадаются отличные книги, которые приятно взять в руки: томик Газданова, рассказы Куприна, «Иудейская война» Иосифа Флавия.
Я подержал Иосифа Флавия в руках, полистал и поставил на место. Пусть достанется тому, кто его еще не читал. И все-таки, держа книгу в руках, я с легким недоумением думал о том, кто принес ее сюда. Как же так, почему тебе не нужна эта великая книга, написанная переметнувшимся к римлянам иудеем почти две тысячи лет назад?
Но что там ящичек на стойке, он вмещает только пару десятков книг. Безразмерный интернет вмещает сколько хочешь. Я захожу на книжные развалы в Сети и одуреваю от сокровищ, которые перестали быть сокровищами. Людям не нужны книги, они отдают самые лучшие, самые великие книги за гроши. Часто даже не думают ставить на книги разную цену, так и пишут: любая 100 р. И станция метро — приезжай хоть с мешком, хоть с баулом, и забирай.
Люди перестают видеть в книге личность и индивидуальность и поэтому пишут в своих объявлениях: «книги разное», словно продают не весомую, умную, ценную вещь, а набор чепухи. Некоторые меряют книги тарой (хорошо еще не килограммами): «три больших пакета… все вместе… срочно».
Все дорожает, только книги дешевеют. Я говорю не о профурсетках в глянцевых обложках и не о потоке модной макулатуры, который исторгают большие издательства. Я говорю о другом. Собрание сочинений Короленко в десяти толстых, крепких, желтоватых томах — за сто рублей. Шесть серых, с детства знакомых томов Александра Грина — за пятьсот. Ну как это может быть, чтобы прекрасные книги стоили меньше, чем стоит бумага, на которой они напечатаны?
А вот кто-то взял и свалил мировую литературу в кучу и на все установил одну цену: сотня за том. И лежат в куче, прижатые друг к другу, люди разных судеб, стран и времен — Александр Блок, Стендаль, Синклер Льюис, Шолом-Алейхем, Федор Сологуб — и ждут своей участи. Плохо идут собрания сочинений, мало кому нужны.
Лит памятники в торжественных темно-зеленых твердых обложках, с выдавленным на обложке свитком и золотыми буквами названия, тоже идут по сто рублей. Томик Батюшкова не возьмете?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность.
Нет, не берут Батюшкова, не нужен этот бедный, с ума сошедший русский поэт, что с ним делать человеку в век детективов и пустобрехов, заполнивших своей болтовней все пространство? Даже за сто рублей не берут.
А Ахматова в двух томах за 500 рублей никому не нужна? Нет, не нужна, это дорого. И поэтому ловкий торговый ум придумывает скидочки: если возьмешь стихи Кузмина, то за 120 рублей, а если сразу Кузмина, Заболоцкого и Тарковского, то за 300. Сэкономишь на русской поэзии 60 рублей.
Тут, на интернет-развалах, можно за день собрать себе такую библиотеку, в которой будет русская классика в собраниях сочинений, и лучшие книги мировой литературы, и самые высокие голоса русской поэзии, и книги по искусству, и ЖЗЛ. И, если хотите, добавьте в вашу библиотеку для красоты и пикантности «Историю моей жизни» Казановы за 200 рублей. А чтобы вас не отпугнуть, чтобы вы не подумали, что дорого стоит Казанова, продавец говорит предупредительно: цена за два тома.
Есть счастливая дешевизна хорошей жизни, когда за небольшие деньги можно купить ценные, добрые вещи. И есть оскорбительная дешевизна, когда великие ценности распродаются мешком за пятак, потому что никому не нужны.
Когда-то книги не покупали, а доставали, потому что они были дефицитом. О, как я презирал одного важного человека, который, сидя в своем кабинете, галочками отмечал в номенклатурном каталоге то, что хочет купить. А я рыскал по магазинам и голодными глазами ухватывал хорошие книжки на высоченных полках «Пушкинской лавки» на Кузнецком Мосту. Однажды — мне было лет четырнадцать — я взял эту лавку измором, заходя в нее каждые четверть часа и спрашивая, не появилась ли «История военного искусства» Ганса Дельбрюка, который так прекрасно анализировал построение фаланги Александра Македонского, что я был от него без ума. И вот на пятый мой заход взрослые люди, делавшие там хорошие деньги на книгах, странно посмотрели на меня, спросили, возьму ли я Дельбрюка без одного тома, и вынесли из закромов желанное, перевязанное бечевкой. А я так и думал, что у них там, за дверью, в которую они иногда уходили, в их пещере Сезама, есть всё! В другой раз я купил на черном рынке там же, на Кузнецком, «Один день Ивана Денисовича», изданный в шестидесятые, было холодно, и я зашел в забегаловку погреться. Тут ко мне, мгновенно выделившись из толпы, пристроился парень в курточке и шапочке, который негромко представился оперативником и предложил сдать того, кто продал мне книгу. Я ощутил неприятный холодок в груди и сказал, что ничего не покупал.
У меня много таких историй, почти про каждую книгу в моей библиотеке я могу рассказать, как она ко мне попала, где и как я ее купил или достал и в какие моменты жизни читал. Я не могу представить, что я продам хоть одну из них, это означало бы продать часть самого себя. Томики Толстого в таких приятных на касание матерчатых обложках дореволюционного издания Саблина открыли мне глаза на жизнь. Синяя книжка стихов Мандельштама из Библиотеки поэта была таким счастьем. Два черных тома Хемингуэя, купленные моим отцом, перешли ко мне, и сейчас я, не открывая их, помню начертания заголовков и твердый шрифт этой прозы. Да, я не продам их, но это не значит, что я не понимаю тех людей, которые продают на развалах книги по дешевке или отдают их в книгообмене. Я их понимаю.
Я их понимаю, потому что невозможно жить понятиями прошлого и ушедшей любовью. Квартиры стали выглядеть по-другому. Никто больше не покупает ковров на пол и стены. Никто больше не обставляет квартиру книжными шкафами. «Икея» уже изъяла из своей коллекции домашней мебели книжные полки, они не нужны людям. Книги собирают пыль. Книги стоят мертвым грузом. Книги незачем иметь, их можно брать в Сети по желанию и необходимости и потом стирать одним кликом, освобождая место для новых.
Раньше в интеллигентном доме непременно была библиотека. «O, у них дома такая библиотека!» — звучало высокой похвалой. «У него дома ни одной книги нет!» — звучало приговором. А теперь и не узнаешь, есть в доме книги или нет. Раньше для тысячи томов нужны были полки во всю стену, а теперь их спокойно вмещает в себя цифровой ридер.
Остается привычка держать книгу в руках и листать страницы, но эта привычка уйдет так же, как уже ушла привычка писать на листе бумаги от руки или перепечатывать рукописи, оглушительно гремя клавишами пишущей машинки. Мир пакуется в цифру, как в чемоданчик, и как удобно в самолете, на высоте десяти километров, поднять обложку невесомого планшета и, скользя пальцем, выбирать одну из закачанных туда многих книг.
Когда-то я поперся через весь город за полным собранием сочинений Герцена. Я нашел его по объявлению. В тесной квартирке две женщины, мать и дочь, поили меня чаем и расспрашивали о том, кто я, что я. Им приятно было отдать Александра Ивановича Герцена в хорошие руки. Он и сейчас со мной.
В другой раз, черным стылым вечером, я нырнул в плохо освещенный подъезд, там куда-то вбок, там с приступки шагнул в дверь квартиры — да, и по сей день есть в Москве странные места — дверь квартиры открывалась прямо в комнату, и в ней было тепло, много света и книг, и молодой человек с высоким сладким голосом, который сразу же дал мне то, за чем я пришел: биографию Лунина пера Эйдельмана. У книги была печать библиотеки, но мне это было все равно. Я не собирался ее перепродавать никогда и ни за что. И несломленный гусар Лунин, коротко стриженый, с волнистыми усами и чуть приподнятой бровью, сегодня вечером со значением смотрит на меня с обложки.
Мир перестал быть книгоцентричным. Вселенная Гутенберга умирает. Технически книгопечатание остается в арсенале человечества, но книга из вместилища мудрости и жизни, из магического предмета, владение которым возвышает человека, превращается просто в вещь в ряду других вещей. На наших глазах гигантский поток книг покидает квартиры и утекает на бесплатные полки книгообмена и на огромные виртуальные развалы. Это исход.
Люди, собиравшие большие, иногда даже огромные домашние библиотеки, уходят, а библиотеки их остаются. Они стоят в молчании, оставленные хозяином сотни томов, стоят на чешских полках со стеклом, которые когда-то тоже приходилось доставать, и ждут своей неизбежной судьбы. Стоят, прижавшись друг к другу, десять серых томов Достоевского, и зеленый Чехов, и голубенький Бунин, и выцветший синий Декамерон, и красный Роллан, и коричневый Бальзак, и голубоватые тома Жюль Верна, которым так хорошо зачитываться далеко за полночь. Все они осиротели и будут изгнаны.
/КР:/
До боли знакомая картина. Книга перестала быть принадлежностью культурного человека. Стремительный бег жизни и , как результат, только интернет, чтение по диагонали./