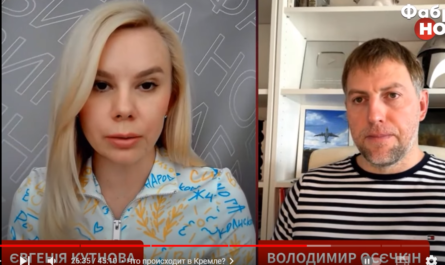Саша Карельский –
так звали пятилетнего мальчика, обитавшего в детском садике, в котором мне довелось в юности работать воспитательницей. Карельский был долговяз, головаст и всегда соплив. Впрочем, если бы не сопли и заляпанная едой одежда, то Карельский потянул бы на эдакого юного дворянского отпрыска – столь интеллигентны были черты его лица и столь глубок и печален был его взгляд.
Карельский, судя по частоте озвучивания его фамилии, был виноват во всём и всегда.
Даже если все дети хулиганили, а он лишь присутствовал при этом, то наказывали именно его.
Карельский постоянно обитал в углу наказанных и чаще всех получал от воспиталок и нянек пинки и затрещины.
Карельский никогда не плакал. Ну, или почти никогда. Лишь изредка, когда отвешенная затрещина была
особенно сильной, он пускал скупую мужскую слезу, отчего сопли начинали
истекать до подбородка, делая Карельского ещё более отвратительным для воспиталок.
Особенное раздражение у персонала садика вызывал тот факт, что Карельский практически всегда молчал. Он никогда не вопил, как другие дети, когда его лупили и
наказывали; он никогда не издавал звуки, когда случалось всплакнуть; он никогда
не просил прощения и не искал оправданий в попытках избежать несправедливого наказания. Карельский был выше этого. Он терпеливо, как Иисус, нёс свой крест, и лишь звук шмыгающего носа выдавал его человеческое происхождение.
Создавалось впечатление, что Карельский был лишним в этом мире. Настроения персонала садика
передавались детям, и это формировало определённое отношение детей к изгою. Ну конечно, дети не столь жёстко относились к Карельскому, но всегда пользовались случаем свалить все свои проступки на него. Дети знали наверняка, что, даже не смотря на нелепость и необоснованность обвинений, всё равно накажут Карельского.
Не знаю, кем были родители Карельского, но казалось, что они не существуют вообще. Нет, они,
конечно, существовали, но в садике появлялись только по пятницам – Карельский посещал единственную в садике группу-пятидневку. И если других детей забирали домой на ночь иногда и по средам, то Карельскому это никогда не светило. И сопли вылечить тоже…..
Я работала воспитателем младшей группы и к группе-пятидневке не имела никакого отношения. Но однажды и воспитатель, и нянька пятидневки одновременно слегли с гриппом, и по распоряжению начальства меня на время их отсутствия перевели в эту группу.
Характеры детей я ещё не знала, но образ Карельского был уже чётко
сформирован в моём сознании под влиянием общественного мнения – хулиган, дебил, неуправляемый придурок «и ващщщеее»….
Результат первого моего неуверенного окрика «Карельский!» поверг меня в изумление. Карельский обернулся, посмотрел на меня грустным и безнадёжным взглядом тёмно-серых глаз и молча пошёл в угол… Я сглотнула невесть откуда вдруг взявшийся в горле комок. «Карельский, – сдавленно сказала я, – иди ко мне!» Мне показалось, что в этот момент я ломала себя так, как ломали себя первобытные люди, идя против законов своего племени.
Карельский поднял голову и взглянул на меня неуверенным и одновременно
удивлённым взглядом. Он медленно двинулся в мою сторону, явно не понимая, что же его сейчас ожидает. Он шёл ко мне, нет, не затравленно, но напряжённо и
испытующе вглядываясь в моё лицо, пытаясь прочитать в моей мимике своё
ближайшее будущее. И не было в его глазах, в его медленных движениях ни страха, ни покорности, ни раболепия, ни заискивания… Он шёл навстречу неизвестности с открытым
забралом, широко расправив плечи…
Я вытерла Карельскому сопли. И не выдержала, обняла его. Я почувствовала, как размякло его доселе напряжённое тело, как подался он ко мне, и, казалось, обнял меня, не поднимая рук. А потом , шагнув назад, снова посмотрел мне в лицо тёплыми, полными надежды глазами. «Иди, Саша, играй!» – выдавила я, и Карельский чуть улыбнулся углами губ, повернулся и пошёл, на мгновение обернувшись назад… Так уходят мужчины от любимых женщин в надежде вернуться.
…… В общем, пять дней я вытирала Карельскому нос, умывала
его, поправляла ему одежду, называла его давно забытым всеми именем Саша, всячески поощряла его и не позволяла никому из детей даже косо смотреть в его сторону. У Карельского в глазах исчезла печаль и появились весёлые солнечные брызги, как у обычных счастливых детей. Он играл, бегал, смеялся и говорил, говорил… И наказывать его было совершенно не за что.
А в пятницу вечером за Карельским пришли родители. Почему-то оба. Я сидела в игровой на детском стульчике и помогала детям одеваться, когда его родители заглянули в дверь. «Саша, – сказала я, – за тобой пришли». Карельский вскинул голову, лицо
его изменилось – я его таким не видела ни разу. На его лице отразилось такое
безграничное счастье, будто он и не надеялся уже найти родителей и вдруг нашёл.
Карельский выбежал к родителям в прихожую и говорил, говорил с ними взахлёб, и смеялся, смеялся!… Я сидела на детском стульчике, уставившись в прихожую. Заворожённая
этим зрелищем, я не могла отвести взгляда от счастливого Карельского.
Вдруг Карельский замолчал и замер, будто вспомнил что-то важное. Он медленно повернулся и пристально посмотрел на меня. Лицо его вновь стало взрослым, а взгляд глубоким и печальным. Неожиданно Карельский вырвался из рук родителей,
вихрем влетел в игровую, подбежал ко мне, обнял меня за шею и, уткнувшись
сопливым носом мне в щёку, крепко поцеловал меня.
Не разжимая объятий,
Карельский на мгновение замер, потом медленно разомкнул руки, не поднимая глаз, сделал шаг назад, повернулся и, не оборачиваясь, спокойно и уверенно зашагал к ошеломлённым родителям.
Он, Карельский, точно знал, что в понедельник, когда его снова приведут в сад, всё будет по-прежнему. Будут ненавистные воспиталки и няньки, будут крики «Карельский!!!», будут тычки и наказания… И не будет меня. Карельский простился со мной искренне и навсегда.
Ирина Граль