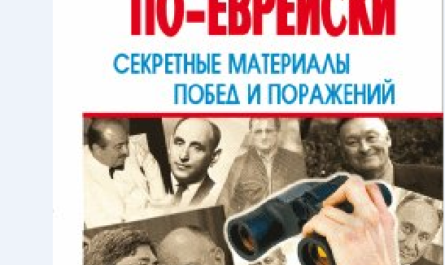В принципе, можно было вообще телевизор не включать. От новостей только муторно становится. Очередная выборная кампания, сейчас начнут лить грязь друг на друга, впрочем, это не прекращающийся политический процесс. А потом все дружно мирятся, обнимаются и так, до следующих выборов.
В Иерусалиме теракт, в Самарии бросание камней, на Голанах змея укусила ребенка, в Галилее туристка упала в ущелье…А еще воспитательницы в детсадах – садистки, а школьные учителя – педофилы. Нет, определенно не стоит включать блок новостей, без него спокойней.
Он выглянул в окно, где-то вдалеке румяный закат окрасил все небо яркими мазками. Почему-то сегодня Борис Леонидович впервые подумал, что удачно выпало им жить на девятом этаже в Хостеле, такой пейзаж открывается… Им…Вот уж привычка, все делить на двоих, а теперь надо учиться говорить в единственном числе. А это после почти шестидесяти лет невозможно. Уже год нет Иды, а он так и не привык…Все наталкивается на какие-то воспоминания, ассоциации. И все без нее теперь не любо. Даже не думал Борис, что настолько он замкнутый человек.
С Идой это не ощущалось, она за двоих умела общаться. Держала его за руку, вела по жизни, хотя все думали, что это он ее ведет. А сейчас оказался он в замкнутом кругу. Соседи по Хостелю зовут на разные мероприятия, мол, год прошел после траура, можно и расслабиться. То общий день рождения в зале делают, то заезжие музыканты концерт дают, то очередные праздники на носу.
Люди, как муравьи, все куда-то спешат, за очередной соломинкой удовольствий. А он никак не встроится в этот стройный муравьиный ряд. И когда в дверь позвонили, первым делом хотелось не открыть, ну, может он же спать, в конце концов. Борис Леонидович не сомневался в том, что это кто-то из активистов хостеля с очередным приглашением на очередное мероприятие.
Вернее, активисток, он даже уверен, что не зря эти дамы к его двери дорогу проложили. Спрашивается, чего персонально звать, если внизу объявление висит? Нет, они, видите ли, волнуются, а вдруг Борис не заметил его, опекают, значит. Но он все-таки открыл дверь. И в комнату влетело облачко по имени Аня, а за ней вошел Юра, его сын. Но Аня точно влетела. Десять лет в танцевальной студии не прошли даром. Внучка его научилась порхать. Справедливости ради надо заметить, что два года службы в военной полиции ЦАХАЛА она охраняла израильские территории, с оружием и при всем обмундировании, и в жару и в холод.
Так не порхают, там защищают. И воюют, если надо. Но в целом, Аня человек легкий, воздушный, и замечательный. Недаром, Ида так любила ее…
Юра пришел и сразу уселся в кресло около телевизора. Анечка поцеловала деда. Пожалуй, она единственная, кто еще соединяет сердце Бориса с детьми. С Леной, невесткой, отношения не сложились еще тогда, когда они отказались брать ипотечную ссуду на общую квартиру. И правильно ведь отказались, потом было бы хуже, и без ссуды и без права на съемное жилье. А не поладили бы они в одной квартире, в этом Борис уверен.
И в Москве вместе не жили, и тут вряд ли получилось бы. Но Лена человек иррациональный, ей легче было обидеться, чем принять железную логику. И самое обидное, что сын поддержал невестку. Как в известной присказке: муж и жена — одна сатана. А Юра, между тем, мог бы включить свою инженерную голову и подумать, чем чревато такое сожительство в общем пространстве. Горшки они тогда не побили, но холодок в отношениях остался.
Ида очень переживала из-за этого. Да что теперь говорить. Четверть века прошло с тех пор… Борису нынче восемьдесят, Ленка может и позлорадствовать, теперь он нуждается в помощи, продукты занести, еду приготовить. Вроде не старик еще, а сдает все-таки. Хоть и вида старается не показывать и держится пока молодцом… — Какими судьбами? — спросил сына и внучку, предложил им воду. На столе всегда бутылка «фанты» стоит, очень ее Борис Леонидович любит. Ида старалась его оградить от сладких напитков, а теперь никому нет дела. Юра налил стакан, поморщился от того что вода теплая.
Анечка с кем-то говорила по мобильнику. Ну что за привычка, прийти в гости и уделять внимание железяке? Наконец нажала отбой и обняла Бориса. — Деда, я замуж выхожу, — прокричала в ухо ему. Ну да, она привыкла, что старикам надо кричать. После армии пошла Аня временно работать в дом престарелых, это называется «авода меудефет», и за нее платят демобилизованным солдатам бонус. А в доме престарелых почти все глухие. И тут до Бориса дошло, что радость в доме, радость в их маленькой семье! Господи, сколько лет не было никаких торжеств, один сын, одна внучка…
И все-таки дождался! А Ида нет… Он постарался отогнать от себя грустные мысли. Ну не сейчас же, не в этот момент. Поцеловал он Анечку, поздравил, обняв сына, спросил где-когда…, кто счастливец этот? — Я тебе одному из первых пришла рассказать, — важно произнесла Анюта, вытянув длинные ноги в рваных джинсах. Он никогда не привыкнет к этой моде рваных вещей. А футболку со швами наизнанку? То ли смеяться от такой моды, то ли плакать…
А лучше всего не обращать внимание, не твое дело, сказать себе. Главное, пришла Анечка, сидит сейчас рядом с дедом, щебечет что-то на своем невообразимом русском языке, вернее на дремучей смеси русского и иврита. И если улыбнуться и исправить, обидится дитя, она уверена, что русский язык у нее замечательный. Да, будет свадьба. И как же это здорово! Думаю, к лету закажем зал, — говорит Аня, — раньше на конец недели хороший зал торжеств трудно заказать, все уже занято. А пока приготовления, это ведь тоже приятно. Платье я знаю, какое хочу…
— Приятно, приятно, – недовольно проворчал сын, — занимайся сейчас всякой бюрократией, доказывай, что ты не верблюд, вернее, что у тебя правильная пятая графа. Понимаешь отец, в той жизни была одна правильная, теперь другая…Он вздохнул. – Нужно свое еврейство доказать в рабануте чтобы получить разрешение на хупу. Ну и хохмологи тут…
Как по мне, — добавил Юра, потягиваясь в кресле — пусть бы ехали себе жениться в Прагу или на Кипр, и пошли все эти церемонии к чертовой матери. Папа, — обиженно сказала Аня, — опять ты начинаешь? Ты же знаешь, что Алону это важно… И мне тоже. Хочу красивое торжество, здесь, настоящее, под хупой с цветами. Чтобы благословили нас, чтобы «брахот» звучали. И «ктуба» была.
Юра только развел руками: — Слышишь отец, какая у нас «цедейкес» в доме завелась? Отдельных слов на идиш Юра нахватался в детстве, когда приезжал в гости к родителям Иды, и изредка к матери Бориса. Мама прекрасно знала идиш, жаловалась только что говорить ей на нем не с кем, не со своим же русским мужем Андрюшей ей разговаривать на идиш?
Юре было все равно, где делать свадьбу дочери, Леонид Борисович понимал. Не все равно, в первую очередь, оказалось жениху. Деда, — ты понимаешь, — Анечка устроилась удобней, с ногами забралась на диван, жует жвачку и рассуждает — У Алона семья, соблюдающая традиции. Все без исключения. А брат старший, тот вообще в Бней-Браке живет, ну очень религиозный. Можно сказать, что Алон самый светский у них в семье, но и ему это важно, чтобы все было по правилам. И мне на самом деле это в радость.
— Я чем-то должен помочь? — озадаченно спросил Борис Леонидович. — Не, деда, все вопросы в первую очередь надо решать по материнской линии, — ответила внучка, — ты в расчет не берешься. Но ты не волнуйся, бабы Ривины, маминой мамы бумажки сохранились, надо только их на иврит перевести. — Ты можешь хоть турком быть, — рассмеялся Юра. — А знаешь, дед — неожиданно задумчиво сказала Аня, — Давай на всякий случай мне и свои бумаги, пусть у них никаких сомнений ни с каких сторон не будет. А вдруг пригодится…
— То я вам и турком гожусь, то давай бумаги, — пробубнил Борис Леонидович и все ж направился в маленькую спаленку. Там на дне шкафа лежала старая сумка Иды, а в ней — их документы. Последний раз копался он в этой сумке перед похоронами, искал нужные документы жены и плакал, плакал… А сейчас хороший повод, только все равно грустно…
Все грустно, когда восемьдесят на календаре. Метрику свою Борис нашел быстро, показал детям. Пожалуйста: Ольшанский Борис Леонидович. Отец – Ольшанский Леонид Исаакович. Еврей. Мать – Ольшанская Роза Гершовна. Еврейка. А бабушка разве не носила фамилию Марченко? — спросил Юра. — Да. Поменяла она, — не очень охотно ответил Борис Леонидович, — Когда вышла замуж второй раз, муж настоял. Так и получилось, что у нас разные фамилии. Я — Ольшанский Борис Леонидович, а Галка – Галина Андреевна Марченко, хоть и мать одна.
Он не очень любил вспоминать те времена. Вспоминать, как однажды пришел в их дом чужой человек, которого просила мама называть отцом, а Борис так и не смог это сделать. Хоть своего отца не помнил, погиб тот в конце 1941, когда попал в плен, к немцам, после страшного боя. Был он уже без погон, без знаков отличия, и когда немцы потребовали сделать три шага вперед офицерам и евреям, солдатик рядом придержал его. А кто-то сзади вытолкнул…На погибель.
Не знал Боря своего отца, но и чужого мужчину принять за отца не смог. Было ему уже девять лет, когда мама второй раз вышла замуж. И оказался этот человек ему чужим. Много позже он узнал о его контузии, о тяжелом ранении в голову, о том, что чудом выжил майор Андрей Марченко. Но тогда мальчишкой не смог открыть сердце новому человеку, да тот, пожалуй, и не искал этого. Переживала ли мать? Переживала, очень. Знает Борис, помнит…
И как сидела около его кровати поздними вечерами. А он делал вид, что спит, лишь бы не разговаривать с ней ни о чем. Так и рос, так и жил. Кактус колючий получился из него. И к маленькой сестричке не смог привязаться. Галка родилась, когда Боре было одиннадцать лет. А когда ему исполнилось семнадцать, он просто встал и ушел из дома. Паспорт есть? Сам себе хозяин. Затем техникум с общежитием, потом институт, опять же с общежитием. Учиться было нетрудно, голова светлая, но интересней было деньги зарабатывать, и гулять вечерами-ночами.
Так и сгулялся бы, сжег бы свои годы Борис Ольшанский, если бы не случилась в его жизни Ида. Вот таким же светлым облачком, как Анечка, пришла она в его жизнь однажды. И пролилась серебряными каплями дождя над его непутевой судьбой и беспутной головой. Аня крутит в руках бумажки, прочитать все равно не может, не тот уровень русского языка, что поделать. Научилась читать печатные буквы и на том спасибо. Юра поглядывает на часы, утром рано на работу, вечером футбол. — Ладно, батя, пойдем мы, — говорит.
Борис Леонидович кивает, он и сам утомился от общения. Отвык… Но Аня с ее непосредственным любопытством продолжает изучать содержимое сумки и извлекает оттуда старые фотографии, смотрит на них с интересом. И вдруг восклицает: «Папа, откуда ты на этом фото?» Она протягивает пожелтевшую черно-белую фотографию деду и восхищенно восклицает, показывая на нее: «Ну, посмотри сам, разве это не папа?»
Юра не так давно отпустил бороду, надоело ему бриться каждый день рано утром, так проще. Работает Юра инженером в фирме кондиционирования, но в кабинете сидит редко, чаще находится на открытом пространстве, лицо его обветрилось и загорело. И такое же лицо смотрит с центра этой старой фотографии. Удивительно! Борис Леонидович даже отправился за очками. — Кто это, деда? Может это семья бабы Иды? – спрашивает Анечка. Борис молча, изучает фотографию, на которую раньше не обратил внимание. Не до этого было…
Где-то, год назад ее прислала младшая сестра Галя, прислала из Нюрнберга, куда она эмигрировала с мужем и детьми и с их матерью. Роза прожила в Германии десять лет. Галя честно сказала, что мама просила ехать, куда угодно, только не в Германию, но именно там открывалась карьера Галиной дочери, талантливой скрипачки, ее взяли на работу в симфонический оркестр. Были два варианта у Розы: остаться в Москве и доживать в одиночку свой век, или ехать с дочерью туда, куда она бы в жизни сама не поехала.
Наверное, был и третий вариант, Израиль. Здесь уже жил Борис. Но долгие годы отчуждения сделали свое дело. Розе стало страшно остаться одной в Москве, страшно, что сын плохо примет ее. И она смирилась с мыслью, куда ведет ее последняя дорога…Лишь бы быть рядом с дочкой. Галя понимала это, и старалась больше уделять матери внимание. А Боря что?
Боря – отрезанный ломоть. Таким вырос, таким и остался. Уже перед смертью Роза написала письмо и попросила его передать сыну. Ей была суждена долгая жизнь, почти 98 лет. Розы не стало за несколько месяцев до смерти Иды. В тот страшный период, когда Борис терял стержень всей своей жизни и пытался как-то продлить дни жены. На похороны матери он не поехал, «шиву» отсидел чисто символически.
А когда, через некоторое время из Германии пришло письмо от Гали, в конверт были вложены фотография и какие-то исписанные бумаги, он механически открыл его, не читая, сложил все обратно, и положил в сумку. Ида умирала. Это были ее последние дни. Умирала дома, потому что Борис не был готов ее отдать никуда и даже при том, что приходила на целый день сиделка, молоденькая девочка из Молдавии, основная забота легла на его плечи. Не до писем было ему тогда.
А когда Галя написала, что похоронила маму, что поставила ей хороший памятник, Борис коротко ответил: «Пусть ей земля будет пухом». Не было у него общего языка с сестрой с детских лет. Откуда ему теперь взяться? И сейчас, спустя год, он впервые внимательно смотрит на эту фотографию и в крепко сбитом мужчине посредине фото действительно узнает своего сына!
Те же черты лица, абсолютно те же! Вот, кажется, только переодеть Юрку, вытряхнуть его из джинсов и рубашки поло, одеть косоворотку и жилет, а на голову картуз, и не отличить их. Он ничего не знает о них. Кто это? Почему он никогда не интересовался прошлым мамы? У нее не было родных. Ну и не надо, думал он. Иногда мама водила его к бабушке Перл и дедушке Исааку, родителям отца, того настоящего, который погиб.
У них была красивая квартира, они ему всегда радовались и дарили подарки. Но их не стало, когда Боре было совсем немного, наверное, лет двенадцать. Разве мог он тогда знать о «деле врачей-отравителей», об инфаркте, который внезапно убил деда и почти сразу после его скоропостижной смерти свел в могилу бабушку…
Все что он ярко запомнил, это рабочий кабинет деда, работавшего заместителем главврача больницы, в центре кабинета висело фото Бориного папы, и Боря иногда тихонечко разговаривал с фотографией. Только, когда никто не видел. Чтобы не знали, не подумали, чтобы не жалели его…
А маминой родней он так и не поинтересовался никогда. Привык, что она одна, может, в детдоме выросла вообще… Борис смотрит на фото и начинает понимать, что это родные его мамы, потому что в центре — она и его отец. Какие красивые и молодые. Какие счастливые лица. А рядом с ними на фото незнакомые ему люди. Пожилая пара, хотя, может, не такие они старые, только выглядят немолодо.
Рядом две девочки — подростки, в клетчатых платьицах. Одна постарше, другая поменьше, а платья похожие, наверное, из одного сельмага. Мальчишки, словно сделанные под копирку, в белых рубашечках. Одинаковые лица, симпатичные и смешные. Кто это? Борис переворачивает фотографию. Видит размашистый мамин почерк, она редко, но писала ему письма. И здесь написано ее рукой: «Всех люблю, целую, уже скучаю и жду встречи! Ваша Роза» И сбоку дата: 20.06.1941 Кажется, начинает складываться витраж. Борис Леонидович содрогнулся от этой мысли.
Юра задремал в кресле около окна, ветерок на девятом этаже хостеля приятно усыплял. Аня сидела, как примерная ученица и не спускала взгляд с деда. Но молчала. Понимала, что не время сейчас задавать вопросы. Почувствовала. У нее вообще потрясающая интуиция, как у бабки своей. Руки неожиданно задрожали. Не хотелось открывать это письмо, потому что потом, чувствовал Борис Леонидович, не будет так прежде, не сможет он жить только своей болью…
Но он открыл его и опять увидел почерк мамы. «Боренька, здравствуй, — писала она, — я, наверное, была не лучшей матерью. Ты уж извини, сынок. Не получилось у меня ею стать, но люблю я тебя очень. И когда ты ушел из дома, переживала, места себе не находила. Только забота о семье, об Андрее, он после твоего отъезда сильно сдал, и о маленькой Галочке держали меня. Жить я была должна. И чтобы дочь поднять, и чтобы Андрея поддержать. Знаю, что ты не любил его. Но он не был виноват в гибели твоего отца, так случилось, сынок.
Так сложилась моя жизнь. Может быть тебе будет приятно знать, что прожив с твоим отцом меньше года, любила я его всю жизнь… Бывает так. Однолюбка я, наверное. Но не жалею я, что вышла замуж за Андрея, скрасила ему тяжелые годы, он ведь очень страдал. Теперь это называется посттравматический синдром. А тогда просто человек оказывался на обочине жизни…
Боренька, до этого дня Бог подарил мне светлую память, желание читать и знать что-то. Я сижу в инвалидном кресле, физически я совершенно разбита. Я понимаю все… возраст. Но голова, Слава Богу, светла, помню все. И знаешь, помню и то, что страшно помнить, но не забыть мне никогда Ты рос колючим мальчиком и не интересовался ничем, кроме своей жизни. И ты никогда не интересовался моим прошлым, моей семьей. Наверное, сейчас перед моим уходом пришло время рассказать.
Нет, сынок, я не выросла в приюте, меня не нашли в капусте, как смешно ты придумывал в раннем детстве. Я выросла в замечательном светлом доме. Свет и тепло этого дома греют мою душу до сих пор. Если ты захочешь больше узнать о моей семье, сын, о том, откуда корни твои, то я записала с помощью Гали свои воспоминания, что помнила о них, все, все…
Если вдруг ты решишь, что тебе это интересно, важно, ты свяжись с Галей, пожалуйста! Не скрою, я иду на эту маленькую хитрость сознательно… Хочу уйти из мира этого и все же надеяться, что у моей дочери есть старший брат, которого она была практически лишена. Конечно, это твой выбор, Боря. Просто знай, Галя будет рада общению. Я понимаю, что одиннадцать лет разницы, это много. Но поверь мне, сынок, это ничто по сравнению с вечностью.
Той, в которую собираюсь я. Галя расскажет тебе все, покажет мои записи, главное, чтобы ты это захотел, Боренька. А к тебе одна просьба. Здесь список имен. Моих самых родных людей, отца и матери, сестер и братьев, которых я потеряла. Они жили в местечке Бережаны в Галиции. Теперь Западная Украина. Там я родилась. Там выросла, полюбила твоего отца и уехала с ним в новую жизнь. В июне 1941 года. Случайно выбрав жизнь. А они остались. Там был их дом. И мой дом. Моя душа скоро вернется туда.
А ты, пожалуйста, передай их имена в ваш музей Катастрофы. Как же поздно я подумала об этом… Я не знаю точно, как они погибли, сынок. Знаю, что гетто, куда их загнали, было уничтожено в середине октября 1942 года. Я не знаю об их последних днях и часах, могу только догадываться…Один раз поехав домой, сразу после войны, я закрыла туда дорогу. Я боялась знать об этом всегда, всю жизнь.
Убегала от фактов, от историй, воспоминаний, а они догоняли меня. Тоже всю жизнь. Теперь догнали. И я думаю о них, вижу их перед своими глазами… Представляю их последние дни и минуты. Словно я виновата в том, что живу все эти восемьдесят лет. А моим родителям, младшим сестрам и братьям, им достался один кровавый ров. Я боюсь ложиться спать, потому что тогда вижу их, и воспоминания становятся невыносимы…
Это моя последняя просьба. Их имена, пусть они будут в главном музее, который у вас в Иерусалиме. Фельдман Герш Мордкович 53 года Фельдман Хана Иосифовна 44 год Фельдман Мира 15 лет Фельдман Соня 13 лет Фельдман Яков и Фельдман Меир. Обоим по 7 лет. Дата гибели одна на всех: 16 октября 1942 года. И место тоже, Черный лес. Спасибо, Боренька. Написала тебе, словно камень с души сбросила. А ты все же поговори с Галочкой. Всю жизнь мне не хватало братьев и сестер моих. А у тебя она есть…
Может, хоть сейчас подружишься с ней. Как жаль, что ты так ни разу и не прислал мне фотографию Анечки, моей правнучки. Она, наверное, уже взрослая красивая девушка…, пусть будет счастлива. Я ухожу, любя тебя. Мама» Руки дрожали. Голова кружилась. Борис Леонидович медленно сложил письмо. Затем вновь развернул, протянул сыну. Тот удивленно уткнулся в бумагу. Аня, чувствуя, что происходит что-то совсем не будничное, молча переводила взгляд со старого фото на деда и отца.
Она еще не знала, кто на этой фотографии, почему обычно равнодушный ко всему дед так странно ведет себя. Она с интересом разглядывала черно-белую фотографию, а на ней незнакомые лица, красивые девочки с длинными косами, смешные улыбающиеся мальчишки. Ее молодая прабабка, взгляд которой вдруг напомнил Ане — ее саму на первом фото с Алоном.
Смотрела Аня и почему-то испытывала странное чувство, словно смешали весну и осень, тепло и жалость, горе и радость, разные краски на одном полотне, и картина это сейчас перед ней… А дед вдруг негромко сказал: «Юра, помоги отцу, закажи билеты на Нюрнберг. И если можешь, возьми отпуск дней на пять, поедем вместе».
14.04.2023. Иллюстрации: художник Альвидас Шапока