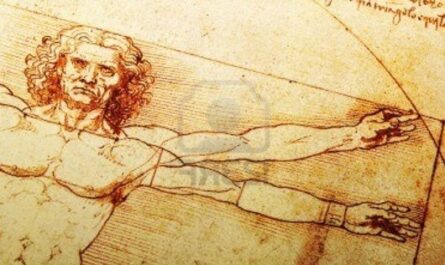Во все времена знаменитый русский писатель Владимир Войнович не только прекрасно понимал настоящее, он знал будущее – наверное, за это он и был в 80-м выслан из СССР, а через год лишен гражданства. Сейчас Войнович живет в России, постоянно бывает в Америке и, как ни странно, уверен, что… все будет хорошо.
– Владимир Николаевич, у меня к вам много вопросов, но начну вот с чего: вы сами себя не боитесь? Я имею в виду ваши стопроцентно сбывающиеся пророчества. Я иногда думаю, что вы даже не предсказываете, а управляете миром.
– Ну, видите ли, я сейчас пишу утопию, поэтому все будет хорошо.
– Вы пишете утопию?!
– (Смеется.) Нет, я пошутил, утопия – это что-то неосуществимое, а я реалист. И, как у реалиста, прогноз на будущее у меня осторожно-оптимистический, основанный на том, что раз сегодня хуже некуда, значит, завтра должно быть лучше. Россия усилиями наших политиков не просто зашла в тупик, она зависла передними колесами над пропастью. Знаете, по-моему, Талейран говорил: «Это больше, чем преступление, – это ошибка».
– Приписывают ему, но не он.
– Ну, неважно. А я такую оценку перефразировал: это больше, чем ошибка, это идиотизм. А идиотизм должен рано или поздно закончиться. Во-первых, Путин не вечен… И Сталин думал, что он бессмертен, и Брежнев… Но дело не в бессмертии, а в том, что так или иначе когда-нибудь он уйдет.
– Ну так он, возможно, уже готовит преемника…
– Кем бы ни был преемник, ему придется что-то менять. Любой преемник считает, что его предшественник делал что-то не так, и пытается ситуацию исправлять. Политика любой страны колеблется по принципу маятника. Маятник доходит до крайней точки и неизбежно обратно.
Это происходит не только у нас. В Америке амплитуда маятника поменьше, от демократов к республиканцам и обратно. У нас – от диктатора Сталина к волюнтаристу Хрущеву. От реформ Хрущева к брежневскому застою, затянувшемуся при Андропове и Черненко. Затем перестройка Горбачева и смерть советского режима при Ельцине. Теперь попытка оживить мертвеца и замах маятника в обратную сторону.
– Ровно теми же словами мне Шендерович про маятник рассказывал. И что у нас будет потом?
– Потом придется заново налаживать отношения с Западом и с собственным обществом. Ни одна страна сегодня не может существовать отдельно от остального мира. Даже Америка. А мы тем более.
Начиная со взятия (избежим слова «аннексия») Крыма и провалившейся попытки сделать то же с юго-востоком Украины власть совершает глупость за глупостью, сигналы об опасности игнорирует, агрессивно реагирует на критику, а критиков объявляет иностранными агентами, пятой колонной, т.е. врагами, и все это приближает не только саму власть, но и всех нас к катастрофе.
Чтобы избежать ее, будет, я уверен, предпринято что-то вроде новой перестройки с ограничением власти высшего руководителя, с попыткой оживления демократических процедур, привлечения к власти новых сил, с налаживанием отношений с внешним миром, отказом от вмешательства в дела других стран, от агрессивной политики и риторики и т.д. Все это, вероятно, ослабит государство и приведет если не к полному распаду, то по крайней мере к отпадению от него каких-то частей, прежде всего Кавказа (на другие территории указывать не буду). И самое разумное будет позволить этим частям отойти с миром. Иначе будет большая кровь, может быть, и гражданская война.
– Есть мнение, что гражданской войны сейчас быть не может, потому что нет граждан.
– Гражданская война – это не обязательно две враждующие стороны. Это может быть «война всех против всех». 90 процентов населения, может быть, не готовы защищать какую-то идею, но вполне могут быть готовы громить друг друга. Люди, которые защищают все, что сегодня творится, называют себя патриотами. Но что такое патриотизм? Это готовность ради блага страны жертвовать собой. Что-то я готовности к самопожертвованию у наших записных патриотов не замечаю.
– А те, кто поехал в Донбасс?
– Я не знаю, что они и от кого защищают. Некоторые, одурманенные пропагандой, в самом деле готовы жертвовать собой и несутся мстить за «распятых мальчиков». Есть ищущие выход из трудностей быта, с которыми не могут справиться. Есть готовые рискнуть жизнью в надежде поправить свое материальное положение. Есть желающие самоутвердиться.
На войне маленький человек получает автомат и становится большим. Вместе с автоматом он получает власть – и над беззащитными пленными, и над гражданскими, у которых он может, например, забрать дом, машину или что-то еще. Есть же и такие, которые просто кочуют с одной войны на другую, потому что только там себя чувствуют людьми. Это особая форма помешательства.
– Ну ладно, вы говорите, что крах неизбежен – а сроки?
– Не крах, а серьезные перемены с реальной угрозой краха. Советскому Союзу понадобилось семьдесят лет. Сейчас все развивается быстрее.
– В «Москве 2024» вы логично предсказали слияние власти и КГБ. А откуда вы взяли отца Звездония? Ведь такой рост роли церкви трудно было предположить.
– Совершенно нетрудно. Чтобы предсказывать, не надо обладать каким-то магическим даром, достаточно внимательно наблюдать за текущими тенденциями и делать выводы. Мне уже в конце шестидесятых годов было очевидно, что многие люди, особенно интеллигенция, разочаровавшись в коммунистической религии, нашли замену в православии. И власть уже на это смотрела сквозь пальцы, и даже секретари райкомов-обкомов тайно крестили детей…
И с КГБ тоже было понятно. Верхушке требовались в качестве помощников люди, хорошо образованные, знающие жизнь внутри страны и за пределами, владеющие иностранными языками и способные читать иностранную прессу. А где таких было взять? Таких готовили как раз для КГБ. Партийные руководители хорошо понимали, какую опасность представляют эти люди, поэтому их в свое время «чистили» и даже истребляли… Но и обойтись без них не могли.
– А теперь какие закономерности сработают?
– Ну, церковь сейчас делает все, чтобы вызвать отторжение, поэтому массовый отход от нее неизбежен. Захват Крыма, война с Украиной, международные санкции – все это приведет к тяжелым последствиям, ведущим к тому, о чем я сказал выше.
– Можете сравнить современное литературное сообщество с литсредой 60–70-х?
– Молодых писателей я почти не знаю. Но судя по тому, что я вижу, конечно, никакого сравнения нет. Советская литературная среда была очень изолированной. Писатели почти все жили в одних и тех же домах, получали дачи в одних местах, ездили в одни дома творчества, посещали одну поликлинику и один ресторан… Десятки лет вместе. И все между собой либо враждовали насмерть, либо так же крепко дружили. Писатели были привилегированной кастой. Ведь тогда нельзя было не ходить на работу, ты объявлялся тунеядцем. А писателю это было не обязательно.
Писатель имел право, помимо общей жилплощади – 9 кв. метров на человека, – на двадцатиметровую отдельную комнату для работы. Писатель мог в особом порядке купить машину. Ну, правда, если ты вел себя как-то не так, тебя наказывали и к привилегиям не допускали. Меня наказывали постоянно, и свой первый «Запорожец» я купил на рынке и по гораздо более высокой цене. А Аксенов, для которого внешний шик всегда был важнее, чем для меня, купил «Жигули». Хотел «Волгу», но не разрешили. Не по чину, мол. Ну, он, правда, все равно потом купил.
– Слушайте, вот о наказаниях… Что вас так развернуло-то круто? Вас принимают в Союз писателей, печатают повесть, песня ваша «На пыльных тропинках далеких планет» становится всеми любимой… И вдруг «Чонкин».
– Во мне никакого перелома не произошло. Это время переломилось. Дело в том, что я состоялся как писатель во время оттепели. Если бы не было оттепели, я бы не состоялся. Я не любил советскую власть и Сталина. Но после его смерти, после XX съезда все изменилось. В 56-м я приехал в Москву – она мне показалась городом революции. Столько всего было – огромное количество поэтов читали свои стихи, и мне казалось, что в этом есть настоящее движение к свободе… Хотя сейчас понятно, что ничего такого уж в них не было.
Что касается песни, то я интересовался космосом задолго до полета Гагарина. Я же был авиатором, очень увлеченным небом. Когда Гагарин полетел, я был счастлив, но был бы рад, если бы полетел и американец. Человек полетел в космос, вот что главное. Ну вот. Я написал повесть «Мы здесь живем», ее напечатали. Написал вторую, тоже напечатали, хотя потом и обругали. Казалось, в стране все идет к лучшему.
Но во второй половине шестидесятых начали закручивать гайки. Когда состоялся процесс Синявского и Даниэля, я счел, что не имею права молчать. Хотя искал компромисс. Помню, тогда в Союз писателей пришел Лев Смирнов – известный судья, который вел процесс по Новочеркасску и многие были расстреляны по его приговору… Теперь он хотел, чтобы писатели одобрили суд над Даниэлем и Синявским. Я передал ему анонимную записку с вопросом: что, если писательская общественность возьмет осужденных на поруки? Предложение мое было с гневом отвергнуто ведшим собрание Сергеем Михалковым.
Но я считал и сейчас считаю, что предложил руководству страны разумный компромисс. Дело в том, что процесс писателей стал причиной неслыханного международного скандала. У властей был шанс погасить его, сказав: да, мы считаем этих людей преступниками, но если писатели готовы за них поручиться, пусть попробуют. Власть на эту наживку не клюнула и своими тупыми действиями породила диссидентское движение, которое способствовало крушению советского режима.
– Советская власть ценила писателей, потому что сознавала их влияние на умы, а значит, опасность.
– Да, кажется, Мандельштам сказал: нигде так не ценят поэзию, как у нас. У нас за стихи убивают.
– Но сегодня писателей и не трогают особенно. Во всяком случае, за тексты.
– И правильно делают. Писатель опасен для власти, когда она его опасается. А когда она на него плюет, то и вреда ей от него нет никакого. Сейчас власть в литературный процесс не вмешивается. Но как только начнет (а такие поползновения есть), так неподконтрольная литература опять станет против власти опасным оружием. Контроль начинается с того, что власть одних писателей считает полезными и поощряет, а других, по ее мнению, вредных, зажимает. Но вскоре выясняется, что именно зажимаемая литература пользуется у читателя успехом, а поощряемую никто не хочет читать. То есть попытки государства подчинить себе искусство неизбежно кончаются результатом, обратным ожидаемому. Кажется, такие попытки кое-где уже предпринимаются.
– В отдельных издательствах. Наверное, это все-таки еще не госзаказ, а личная инициатива.
– Не личная, а поощряемых властью агрессивных активистов. Прокремлевских, православных, казаков каких-то, которые пытаются не только литературу, но вообще все искусство подчинить своим дурным вкусам. Помните, как бросали в унитаз книги Сорокина, громили выставку «Осторожно, религия!» и совсем недавно нападали на режиссера Богомолова, запрещали оперу «Тангейзер» и травили не только Андрея Звягинцева за «Левиафана», а даже актера Валерия Гришко, сыгравшего в этом фильме роль священника?
Это мне очень напоминает мрачные советские времена, когда травили художников, композиторов, писателей и часто с помощью так называемых представителей рабочего класса, один из которых прославился фразой: «Я Пастернака не читал, но скажу…»
– Но формально сейчас цензуры нет.
– Формально ее и в Советском Союзе не было, но все знали, что некий Главлит именно цензурой и занимался. И каждый редактор был цензором. Причем в его задачу входило замечать не только прямую крамолу, но и то, что говорилось между строк, то есть в подтексте.
И вот был, что называется, контролируемый подтекст, а был неконтролируемый. Контролируемый – тут все понятно, это когда актер выходит на сцену и говорит: «Прогнило что-то в Датском королевстве». И все смеются, потому что понимают, что за королевство имеется в виду. А неконтролируемый подтекст – это, как объяснил когда-то Григорий Чухрай, когда смотришь, допустим, видовое кино: горы, снежные вершины, орел парит в вышине, смотришь и думаешь: «А все-таки Брежнев сволочь». Вот редакторы и цензоры сначала вылавливали контролируемый подтекст, потом взялись за неконтролируемый и находили крамолу, где и намека на нее не было.
– Мы часто можем наблюдать, что, как только талантливый писатель начинает выступать на стороне государства, ему как будто отказывает талант. Почитать сейчас Юнну Мориц – не узнать же. Как вы это объясните?
– Юнна Мориц – поэт очень серьезного дарования. Ее прежние стихи просто чудо. А то, что теперь она пишет… То же самое случилось и с Новеллой Матвеевой.
– Нет, когда Матвеева не касается политики, она и сейчас пишет очень здорово.
– Вот и не надо касаться того, чего не понимаешь. И помнить Белинского, который сказал, что, когда писатель отступает от правды, ему отказывают ум и талант.
– Но для них самих это самая правда и есть. А что случилось с «деревенщиками»? Распутин, Белов… Тут, правда, немного другая ситуация.
– Ситуация другая, а причина та же. Великолепные были у Белова «Плотницкие рассказы», «Привычное дело»! А как-то я читал его поздний тенденциозный роман «Всё впереди» – там с первых строк несуразица. Написано: самолет «долго выруливал, а потом затих». Начал писать предвзято и даже слово чувствовать перестал. Ведь выруливать, выходить, выплывать – это двигаться куда-то наружу. Самолет выруливает перед взлетом, а не при посадке. С «деревенщиками» было вот что: когда неугодных писателей начали преследовать, они вышли на первый план. Их считали совестью нации, голосом народа… А потом, когда притеснение других закончилось, им пришлось вернуться в конкуренцию. И это им не понравилось.
– Ну и напоследок: вы не думали совсем эмигрировать?
– Да ведь если я сейчас уеду, это уже не будет эмиграция, это будет переезд. Я себя чувствую дома и здесь, и в Америке, и в Европе, мне сейчас нет большой разницы, где жить. Здесь меня пока не трогают, я никому не опасен. Если это изменится…

А еще он пишет картины…