
Вот ирония судьбы — всю сознательную жизнь был ярым антисоветчиком, а теперь живёт в дачном посёлке «Советский писатель».И таких коллизий в жизни Владимира Войновича масса. Не судьба, а лихо закрученный детектив. В котором нашлось место всему: погонам и погоням, травле и отравлениям, угрозам и угрызениям. Не было места только смеху. А он всё равно смеялся. И смешил нас.

Беседовал Дмитрий Тульчинский
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Недавно 77-летний писатель хорошо посмеялся в своих мемуарах, которые назвал «Автопортрет». Что это смех сквозь слёзы, говорить, наверное, излишне…
— Владимир Николаевич, «Автопортрет» можно назвать подведением неких итогов?
— Да. Хотя профессия писателя интересна тем, что есть иллюзия, будто что-то ещё ждёт впереди. Но, конечно, итоги. Когда ж их ещё подводить, как не в 77 лет.
— И к чему же вы пришли? Каков главный итог?
— Главный итог, это я и в книжке написал, — что в жизни я достиг гораздо большего, чем ожидал. Это с одной стороны. А с другой — гораздо меньшего, на что был способен. По первому пункту могу сказать, что где-то до 20 лет я вообще не думал, что со мной будет. Потом, когда в армии служил, задумался.
— В армии, по-моему, вы начали писать стихи.
— Да. Но не по внутреннему убеждению, а потому что понял: надо выбираться из этой ямы, в которую меня жизнь засадила. А я всё-таки не получил образования — в школе занимался через пень-колоду, в институте всего полтора года отучился, вынужден был работать: в колхозе, на заводе. В общем, жизнь мне ничего хорошего не сулила. Я просто сам восстал против своей судьбы.

— А по второму пункту? Тут-то вам сложно винить себя, обстоятельства были выше — вас исключали из Союза писателей, выгоняли из страны…
— Ну, отчасти я этими обстоятельствами сам руководил. И было время, когда нагромождал себе какие-то трудности, которые потом преодолевал. Можно было и обойти, и что-то смягчить, наверное.
— С высоты возраста и положения, конечно, всё видится несколько иначе. А тогда? Если исходить из фактов, то в 30 лет вы стали членом Союза писателей. Первая повесть вышла — вас сразу приняли. Это же блестящая карьера! Что побудило не пойти по такому простому, понятному и логичному пути, когда к 60-ти годам — Орден Ленина и полное собрание сочинений? Что заставило искать себе приключения?
— Наверное, натура. Дело в том, что когда я начинал пробовать себя в литературе, время было другое, хрущевская оттепель. Моя первая повесть по сегодняшним меркам была совершенно безобидна — и то какой-то критик сразу заметил, что «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни, как она есть». А потом оттепель кончилась, наступили новые заморозки. Даже то, что я писал во время оттепели, было уже непроходимо. А я двигался дальше в том же направлении: по пути «изображения жизни, как она есть». Поэтому мое развитие было совершенно естественным, тут у меня никакого сожаления нет. Просто я думаю, что какие-то острые углы можно было и сгладить, замолчать на какое-то время, отойти в сторону. Или уйти в подполье и писать, писать, писать. Больше бы успел. Но получилось так, что я вступил в борьбу с государством, бессмысленную, которая только выхолащивает, и потратил на это много сил… Того же «Чонкина», к примеру, мог всего написать, где-то укрыться, а потом уж вступить в эту борьбу.
— А все ваши неприятности начались с «Чонкина»?
— Нет, неприятности у меня были почти всегда, с самого начала. Если первую мою повесть приняли ещё благожелательно, то вторая — «Хочу быть честным» — вышла уже, когда начались идеологические проработки: встреча Хрущева с художниками в Манеже, приём писателей в Кремле. И поэтому секретарь по идеологии Ильичев сказал: «Что это такое — «Хочу быть честным»? Это Войнович хочет сказать, что в нашей стране трудно быть честным?» Короче говоря, тогда уже попал в лёгкую опалу — книжку, которая шла у меня в издательстве «Советский писатель», сначала затормозили. В конце концов, её выпустили, но выкинули из нее всё, что было возможно. А потом, уже в 66-м, когда я выступил в защиту Синявского и Даниэля, начались и более серьёзные вещи.
— Однако из Союза писателей вас исключили только в 74-м. Получается, восемь лет всё-таки терпели.
— Ну, не совсем терпели. Наказывать начали с 68-го — тогда я получил первый строгий выговор за подписи в открытых письмах. И это сопровождалось полным запретом всего, что я написал. У меня тогда пьеса «Два товарища» шла в 36 театрах страны, «Хочу быть честным» — в 50-ти. И всё это было снято. Причём, не объясняли, за что запрещают, а говорили всякую чепуху. В Театр Советской Армии, например, где «Два товарища» шли с аншлагом, пришёл человек и сказал, что пьесу придется запретить, потому что Войновича поймали на границе, когда он пытался перевезти бриллианты. Где-то говорили, что я уже уехал за границу, где-то — что я агент ЦРУ. Короче говоря, по всему Союзу запрещали со скандалом. Никакой литературной работы мне не давали. В московском комитете партии была женщина, Алла Петровна Шапошникова, она лично меня за что-то ненавидела и говорила: мы Войновича выведем из Союза, мы его уморим голодом, мы знаем, что он пишет под чужими фамилиями, но мы и до этого доберёмся. То есть практически я был лишён возможности заработать даже копейку.

— На что же приходилось жить?
Ну, во-первых, что-то я заработал всё-таки на тех пьесах, жил сначала на накопленное. Потом стал одалживать, дальше действительно начал писать под чужими фамилиями. И тогда один прозаик, Владимир Санин, который никогда не писал стихов, вдруг стал известным поэтом-песенником. Ещё за кого-то делал сценарии.
— А вас не пытались привлечь? За тунеядство, за антисоветчину?
— Сначала нельзя было привлечь, потому что член Союза писателей. А когда уже исключили, ко мне начал наведываться участковый Иван Сергеевич Стрельников и спрашивать, на что я живу. Приходит, мнется: вот, дескать, Владимир Николаевич, вы понимаете, меня начальник послал, мне неудобно, но хотелось бы знать, вы вообще работаете где-нибудь или не работаете? Я отвечаю, что, конечно, работаю. А где? «Как где — вот здесь, за этим столом. Писателем работаю». Вижу, у него в глазах уже что-то мелькает, лукавинка такая. «Владимир Николаевич, но вас же исключили из Союза писателей». — «Иван Сергеевич, вы знаете, Толстого даже от церкви отлучили, но он остался тем, кем был. Из Союза писателей исключить можно, а из писателей исключить нельзя». Но он опять стал канючить: начальник просит, напишите объяснительную записку. Ну, хорошо, говорю, напишу. Помню её почти наизусть: «На запрос участкового Стрельникова сообщаю, что я пишу книги, которые издаются во многих странах мира, и, как всякий известный писатель, зарабатываю достаточно для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Данное объяснение считаю исчерпывающим». И подписываюсь: «Владимир Войнович, член-корреспондент Баварской Академии изящных искусств, Французского ПЕН-клуба, почётный член Американского общества Марка Твена». Всё — участковый уходит. Тунеядец — член Баварской академии! А они всё-таки с такими вещами считались. Накололись ведь уже на Бродском. Но Бродский по их понятиям точно был тунеядец, у него никаких справок даже не было. Если бы он тогда уже был нобелевским лауреатом, они бы тоже его не тронули. Но он был никто, и то большой шум поднялся. А я всё-таки был уже известен на Западе, у меня к тому времени «Чонкина» на 30 языков перевели…
Тем не менее, год этот участковый не приходил, но потом опять явился. «Владимир Николаевич, вы знаете, у нас сменился начальник, и он просит, чтобы вы написали ещё одну объяснительную записку». Я говорю: «А советская власть ещё не сменилась?» Он опешил: «Да вроде нет». — «А раз не сменилась, значит, старый ваш начальник должен был передать мою записку новому. А я там написал, что считаю объяснение исчерпывающим». Он никак не отставал, и тогда уж я сказал: «Хорошо, хотите, чтобы я работал? А вот если я пойду дворником в наше управление, как вы к этому отнесетесь?» — «Хорошо было бы». — «Так пойдите, — продолжил я, — и устройте меня». Он удивился: «Почему я? Вы идите сами». — «Ещё чего не хватало, это же вас не устраивает, как я работаю». А у меня уже замысел созрел — я же хулиган был. Думаю: допустим, примут меня на работу. Я надену фартук, метлу куплю, бляху себе достану, как у старорежимных дворников. Созову западных корреспондентов — а тогда ко мне как к диссиденту большой был интерес со стороны иностранной прессы, выйду с этой бляхой во двор и сфотографируюсь. После чего брошу метлу на землю и скажу: а теперь я объявляю забастовку до повышения зарплаты всем дворникам Советского Союза. И уйду… Но они, видно, поняли, что я задумал что-то коварное, поэтому вскоре отстали от меня.

— Вот вы смеётесь, Владимир Николаевич, а вообще, в такой ситуации, наверное, не до смеха. И если бы не ваш оптимизм природный да чувство юмора…
— Ну, наверное. Но, скорее всего, у меня просто другого выхода не было. Потому что мне нужно было или сесть где-то в углу и съёжиться, или уже идти напролом.
— Вы тогда не думали об отъезде?
— Я уезжать не хотел, и даже принципиально. Потому что мне намекали, и много раз. КГБ ведь действовало самыми разными способами, часто даже просто хулиганскими. И нападали на человека неугодного, и избивали, а потом его же тащили в участок и говорили, что он сам всех избил. А в моём случае были телефонные угрозы — мол, если не уберешься, то тебе чего-то там будет. Потом развешивали объявления по всему городу: «В связи с отъездом в Израиль сдаю квартиру». С моим номером телефона. И шли бесконечные звонки. Сначала я отзывался, объяснял всем, что ошибка. А потом понял, что это невозможно, потому что просто лавина звонков, телефонный террор какой-то. И тогда я взял магнитофон и записал свой голос: «Говорит электронный секретарь. Владимира Николаевича сейчас нет дома, говорите, что ему передать, в вашем распоряжении сорок секунд». А у нас тогда не было автоответчиков, только слышал, что на Западе вроде бы были. Все терялись, тут же вешали трубку и, в конце концов, отстали. Потом мне прислали вызов из Израиля, где были перечислены я, мои родители и сестра, жившие в провинции. Были указаны все адреса, имена-отчества — данные, которые даже мои друзья не знали. Я взял все эти бумажки, вынес на улицу так, чтобы видели, — а я же знал, что за мной следят, — изорвал и выбросил.
— А почему вы не хотели уезжать? Жить здесь — невыносимо, а там вас, такого одиозного писателя, приняли бы на «ура».
— Знаете, когда вас выгоняют, возникает чувство протеста. Мол, вы хотите, чтобы я уехал, вы меня выгоняете, а не уеду и всё. Но где-то к концу 70-х терпение мое уже кончилось… Кроме того, меня же в 75-м году ещё и отравили. Вызвали в КГБ, провели беседу. Но, видимо, им не понравилось то, что я говорил, и, когда вызвали второй раз, отравили.
— Чем?
— Я думаю, что сигаретами, точно не выяснил. И, конечно, для меня это было большое испытание. Мне и раньше угрожали убийством, было несколько прямых намеков. Один гэбэшник мне сказал так: дескать, говорят про нас, что мы применяем страшные меры, политические убийства. Говорят, что и Виктора Попкова, художника, мы убили. А это не так. Он пьяный вышел из ресторана, полез в машину, а это была машина инкассатора, а инкассатор тоже был «под мухой», и он выстрелил. И смотрит на меня — как буду реагировать… Тогда я написал письмо Андропову: что мой «Чонкин» уже опубликован, и теперь всем вашим «инкассаторам» его уже не остановить, а со мной вы можете делать всё, что угодно. И после этого уже решил так. Мне 42 года. Ну, хорошо, будем считать, моя жизнь кончена. Сколько проживу ещё, столько и проживу. Но проживу весело, и буду жить так, как хочу. Потому что можно было сидеть и трястись от страха. Или сдаться, и весь остаток жизни себя презирать.
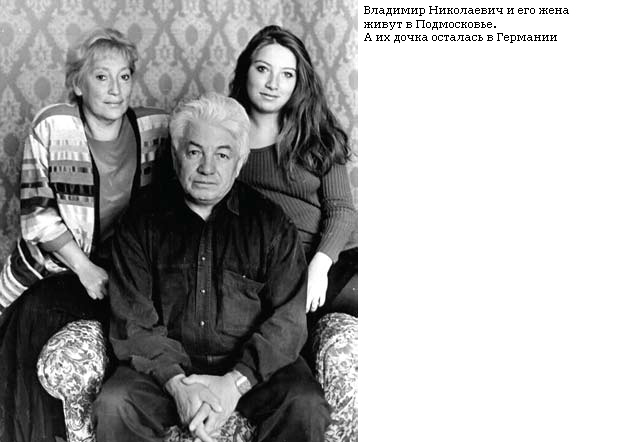
— Но момент отчаяния у вас был тогда?
— Был, конечно. Почему в 80-м и уехал. До того я ведь не хотел уезжать. И жена моя говорила: имей в виду, я ни за что не уеду. А тут уже настолько все надоело, что я стал думать: зачем, собственно, я здесь жизнь свою гроблю? Писать уже сложно. Скажем, свою главную книгу о Чонкине я уже не мог продолжать, потому что она требовала благодушного настроения, а у меня настроение было — хуже не придумаешь. А тут ещё война в Афганистане началась, Сахарова выслали. Говорю жене: может, правда, поедем уже? Надоело. Она кивнула. Тогда я громко несколько раз сказал у себя дома: «Я готов уехать». И тут же появился человек под видом агитатора — тогда были выборы в Верховный Совет РСФСР. Спросил, почему не хожу на выборы. На что я ответил: не ваше дело. И тогда он мне сказал: «Владимир Николаевич, мне поручено вам передать, что терпение советской власти и народа кончилось. Если вы не измените настоящую ситуацию, ваша жизнь здесь станет невыносимой». — «А моя жизнь уже невыносима, — говорю. — И если этот ваш ультиматум означает предложение покинуть страну, то я готов, если будут выполнены мои скромные условия. Так и передайте». А условия у меня были такие: библиотеку и архив вывожу беспрепятственно, квартиру передаю родителям жены, телефон должен быть включен до моего отъезда — а он четыре года у меня был выключен. Человек исчез. Спустя какое-то время через знакомых мне передали встречные условия: я должен покинуть страну до Олимпиады. А ситуация на самом деле складывалась очень тяжелая. Родители моей жены были люди консервативные, ее отец, старый большевик, сказал: «Как! Куда? В эту фашистскую страну?!» А мы собрались в Германию. Мать её жутко переживала, говорила, что если мы уедем, они умрут… Жена сказала, что не может ехать. «Ну а что делать? Я уже договорился, ты понимаешь, что с КГБ шутить нельзя?» — спросил я. — «Давай уедем хотя бы после Нового года». Я через своих знакомых передал «туда»: до Олимпиады не уеду, но если вы боитесь, что буду ставить какие-то «рекорды», то я обещаю этого не делать, и на время игр покину Москву. Те, видно, не ожидали от меня такой наглости, но делать им было нечего — согласились. Мы уехали на всё лето из Москвы. В это время мать жены, не выдержав переживаний, умерла. Отец поехал к нам, чтобы сообщить о смерти, и возле подъезда упал и тоже умер. И у меня в тот день разыгрался приступ — чуть Богу душу не отдал, давление скакало страшно. После этого я несколько дней пролежал, родителей жены похоронили без меня. И тогда я передал через тех своих знакомых, что теперь уже готов уехать немедленно, без всяких условий. Спустя некоторое время мне подсунули под дверь приглашение прийти в ОВИР.
— О жизни в эмиграции не спрашиваю — это отдельная эпопея. Скажите лучше, что чувствовали, когда приехали в Москву в 89-м?
— Вернулись же, можно сказать, на белом коне! У меня были чувства противоречивые. Да, «Чонкина» здесь уже напечатали в журнале, причем тиражом небывалым — 3,5 миллиона. Но всё это выглядело как-то очень странно. Сама встреча в аэропорту была смешная. Во-первых, ко мне тут же подбежали телевизионщики. «Вы рады, что приехали?» — «Да, очень рад». — «Наверное, хотите кого-то поблагодарить?» — «Не хочу, — сказал я, — потому что приехал в свою страну и не обязан никого благодарить». Наверное, это было хамство с моей стороны. Какое-то время спустя я встретил одного из тех телевизионщиков, и он мне сказал, что они должны были дать этот репортаж в программу «Время», но когда везли плёнку в Останкино, им по рации передали, что, дескать, можете не спешить, сюжет не выйдет.
— Вы видели тех ваших коллег-писателей, которые в 1974 году исключали вас из Союза?
— Практически не видел. Одного встретил в поликлинике — он как-то заискивающе начал со мной здороваться. А другие, когда их обо мне спрашивали, обычно говорили: это не я, я не помню, все такие были, такое было время.

— Обида осталась?
— Обида?.. Да нет, пожалуй. У меня осталось только презрение. Я готов простить каждого. Но только для этого нужно попросить прощения. Но никто прощения не просил, поэтому и я никого не прощаю, а отношусь с презрением. И относился, и отношусь.
— За эти 20 лет ни разу не пожалели о том, что вернулись назад?
— Нет, не пожалел. Во-первых, хотел быть свидетелем того, что здесь происходит. Одно время даже думал быть участником. Кроме того, я же не в западню приехал. Хоть сегодня могу взять и уехать.
— Но вам же, наверное, писать не о чем? Сатира здесь кончилась.
— Нет, писать есть о чём, писать всегда есть о чём. Не может быть такого времени, чтобы не о чем было писать. А насчёт сатиры — есть же олигархическое общество.
— Вы о нём пишете?
— Нет, не пишу. Я уже старый, пусть молодые пишут. Хотя сейчас начал одну вещь. Не знаю, напишу или нет, но она о современной жизни.
— Значит, мемуары ещё не финальная точка?
— Вы знаете, после мемуаров, согласно логике, должен следовать некролог. Но я надеюсь, что в промежутке ещё чего-нибудь будет…








