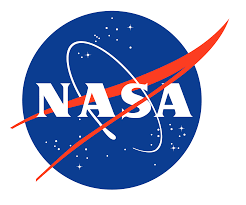Воспоминания Сергея Юрского
Сергей Юрский — актёр, режиссёр, поэт. Народный артист РСФСР. Испонитель роли Сталина в спектакле "Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина" (театра "Школа современной пьесы") и в сериале "Товарищ Сталин". Исполнитель роли Фабра в моноспектакле "Любимцы господина Фабра" (радио "Свобода"). Его воспоминания записал Михаил Нисенбаум.

Я восемнадцать лет прожил при Сталине. Отношение к нему менялось, потому что я взрослел, потому что я видел, что происходит вокруг в нашей среде, среде художественной, к которой принадлежали мои родители, в среде близкой к художественной, потому что и отец, и мама были людьми литературными. У мамы— музыкальная среда. Отец был очень видной фигурой и имел разнообразные связи с людьми, которые бывали в нашем, если можно так сказать, доме, потому что это был не дом, а полторы комнаты без туалета внутри цирка, которым руководил отец. Потом это была комната в коммунальной квартире среди других комнат в общей квартире, в которой жили 27 человек.
Я настолько старый человек, что я помню в нашей комнате, скажем, Валерия Чкалова, с которым отец выпивал у нас. Я помню странных людей — Куприна, не в квартире, нет, а в цирке, но в состоянии уже померкнувшем.
Я настолько старый человек, что я помню в нашей комнате, скажем, Валерия Чкалова, с которым отец выпивал у нас. Я помню странных людей — Куприна, не в квартире, нет, а в цирке, но в состоянии уже померкнувшем.
То есть я не помню, какой он был, но помню только, что отец, который руководил цирком, ввел меня в ложу и сказал: «Запомни, ты видел Куприна». Я помню людей, которые оказались в нашей комнате, друзья отца, которые к этому времени прошли тюрьму, прошли запреты на посещение городов, включая тот город, в котором находилась эта комната. Это был, скажем, Сергей Александрович Ермолинский. Он был молодым другом Булгакова все последние годы, был арестован как человек, якобы принадлежавший к кружку, возглавляемому Булгаковым, с якобы контрреволюционными целями.
А дальше были мои друзья, которых я тоже знал или был абсолютно близок с ними — это Симон Маркиш, мой самый близкий друг в течение многих лет, сын Переца Маркиша, расстрелянного члена Еврейского Антифашистского комитета. Назову Ефима Эткинда, с которым мы были не очень уж близки много лет, но абсолютно дружны. К фамилии Эткинд я еще вернусь. Я знал и общался с Солженицыным. Я дружил с Марленом Коралловым, человеком, который известен хотя бы тем, что он получил 25 лет лагерей в конце 40-х годов, будучи еще студентом, естественно, по 58-й статье. Для него тема сталинизма, очень сложно, кстати, им преобразованная, тема последствий сталинизма, реальности сталинизма, сравнения сталинизма с тем, что можно назвать несталинизмом или антисталинизмом, в его книге, вышедшей посмертно. Это все тот самый круг, который заставлял меня интересоваться фигурой Сталина. Я был знаком и с людьми, которые его знали лично, например, с Константином Симоновым. Я играл в его пьесе, я играл в пьесе Артура Миллера, переведенной Симоновым с сыном. Когда драматург Ион Друцэ, очень мною уважаемый, сказал, что он написал пьесу о Сталине и не хочу ли я ее прочесть и сыграть, я сказал: «Сыграть Сталина? Да вы что? Ион Пантелеевич, у меня свое амплуа».
Когда драматург Ион Друцэ, очень мною уважаемый, сказал, что он написал пьесу о Сталине и не хочу ли я ее прочесть и сыграть, я сказал: «Сыграть Сталина? Да вы что? Ион Пантелеевич, у меня свое амплуа».
Я прочитал пьесу, она мне показалась по направлению драматического театра чужеватой. Год мы с ним общались, он говорил мне: «Либо играйте эту пьесу, либо не играйте, играйте другую пьесу». Однако Сталин меня держал. Я написал свой вариант, и Друцэ сперва его не принял, а потом махнул рукой. Мы играли ее 10 лет, в которые отношение к Сталину менялось невероятным образом в обществе, а значит я знаю отношение общества не через газеты, а через совсем другое, через то, что я пытался вжиться в этого человека в том варианте, который я видел, а я видел в этом абсолютно абсурдистский реализм. И зритель, то есть зрительный зал, то есть некая масса людей, которые так или иначе реагировали, за эти 10 лет менялись очень сильно. Сперва попробовали грим — это для журнала, где работают очень сильные гримеры. Мне хотелось вглядеться в этот портрет. Вглядевшись, мне очень захотелось его играть, но я не знал, что делать. У меня были даже наклейки, усы, сделанные так, как он носил, парик. Или… И вот это «или» на последних прогонах спектакля привело к странному решению — я решил играть первый акт без грима. Был написан мною некий пролог, чтоб зрители знали, что сейчас Сталин выйдет. Его офицеры охраны доносили это до зрителя в разговоре друг с другом: «Хозяин». Во втором акте я появлялся в полном гриме. Что я наблюдал? Абсолютно разные реакции и абсолютно разный поток зрителей. Поведение Сталина, его юмор и юмор ситуаций, в которые он попадал и оказывался смешным… для меня очень важна была тема абсурда, иногда люди смотрели в оцепенении, молча, иногда, к моему счастью, они реагировали на эти ситуации, в которые попадал властелин мира. Иногда они ему сочувствовали, и я это чувствовал. Иногда они насмешничали, зрители, над ним. И, наконец, иногда они цепенели от страха, ужаса и подчиненности, особенно это второе появление, то есть в полном виде, я видел и такие залы. Самым провальным из всех был спектакль, когда верхушка либеральной интеллигенции Москвы решила групповым образом посетить этот спектакль, то есть это были очень заметные люди, многие мои знакомые, некоторые мои товарищи. Они заранее знали свое мнение о Сталине. Как я понимаю, перед политиками лучше вообще ничего не надо играть. Это было время, когда Сталин людей очень интересовал и когда я окончательно понял, что Сталин и сталинизм — вещи, близкие по названию и не совпадающие по сути.
Это было время, когда Сталин людей очень интересовал и когда я окончательно понял, что Сталин и сталинизм — вещи, близкие по названию и не совпадающие по сути.
Один вариант, — когда в зале были сталинисты, а такие тоже бывали, другой вариант, когда в зале были антисталинисты. И, наконец, когда был сборный зал, что называется, вот это было лучше всего, как и вообще для театра лучше всего. Когда сидят все свои — это явно не театр, когда сидят явно чужие — это коррида, а вот когда сборный зал, разнообразие и внезапность реакции и взаимодействия зрителей друг с другом, вот тут ты начинаешь задумываться, что же такое сталинизм, как в нем растворен мой народ, как в нем растворены зрители, как им заражены зрители или как они пытаются высвободиться. У нас был правитель нашего государства, который был в ранге Бога. Это существенная проблема.
А потом мне предложили сыграть Сталина на экране: это был особенный опыт снятия четырёхсерийного фильма в реальных декорациях, то есть без всяких декораций, на даче Сталина, где он прожил последние годы, где все вещи сохранились, где я сидел и мне поправляли прическу, брили меня на том самом стуле, на котором брили его. Рядом стояла очень скромная, неприятная, надо сказать, ванна, но которой он пользовался. Я сидел рядом с людьми, которые играли Ворошилова, Берию, с его малым окружением на последнем дне рождения, куда он не позвал ни сына, ни дочь, за громадным столом, накрытым специалистами, которые вообще накрывают кремлевские столы. Это было натурально до ужаса, потому что фотографии для журнала «Огонек», некоторые картины были Сталиным не только отобраны, но повешены его руками, никто их не
Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм — вещи разные. Сталин есть отражение некоей потребности в людях, которую он угадал и сумел угодить.
трогал все эти годы. Это было второе исследование. И там уже стоял вопрос самоощущения и разговора. Разговаривает он в основном с истопником, для него это было совсем безответственно, потому что он понимал, что этот раб не существует, а вместе с тем сидит, можно говорить, можно подумать вслух. А он был один, потому что вход в эти самые комнаты, в которых я провел месяц, был абсолютно закрыт без звонка Сталина, разрешающего вход. Потому он, собственно говоря, видимо, и умер, потому что никто не решался зайти, а он не дотянулся, видимо, до звонка. Я постигал Сталина через самочувствие и через внимательное вслушивание, как это самочувствие передается другим людям. Я теперь говорю снова о спектакле. Вот эти совпадения, несколько даже подхалимское подыгрывание шуткам Сталина, или ненависть, крутая ненависть, которая делает людей железными, или просто почтение, внутреннее желание встать по стойке смирно, только, может быть, люди это сдерживают — все это я видел за 10 лет. Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм — вещи разные. Сталин есть отражение некоей потребности в людях, которую он угадал и сумел угодить.
Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм — вещи разные. Сталин есть отражение некоей потребности в людях, которую он угадал и сумел угодить. В тексте фильма уже существовал мотив: что вы все жалуетесь, в тюрьму сажают, арестовывают? Я сам в заключении. Посмотрите, что у меня вокруг — деревья, деревья, а за деревьями ходят с ружьями. Я здесь тоже в тюрьме. И это тоже была правда. Его не стало уже давно, но что такое сталинизм? Он родился до Сталина и нашел в Сталине свое абсолютное воплощение. Он сохранился после Сталина.
Я возвращаюсь к одной из фамилий — Ефим Григорьевич Эткинд, мой товарищ. Когда в 1974 году в нашем общем родном городе Ленинграде был не то чтобы процесс, это не так называлось, это называлось «решение ученого совета» Педагогического института о том, чтобы лишить Эткинда всех званий за антисоветскую деятельность. Подчеркиваю — 1974 год. Тогда тоже прошло много лет со времени смерти Сталина, тогда уже прошло много лет с ХХ съезда и доклада Хрущева, уже годы прошли с того времени, когда сносили памятники Сталину, когда выносили Сталина из мавзолея. Я сейчас перечитываю эту книжку Этикинда, которая называется «Записки незаговорщика», написанную уже на Западе, куда он был изгнан вслед за людьми, связь с которыми ему инкриминировали, с Солженицыным, которого раньше выпихнули, и с Иосифом Бродским, который тоже раньше его уехал. Эта книжка полна стенограмм и очень мудрых и точных психологических оценок. Он рассказывает обо всей обстановке и рисует психологические портреты реальных людей, интеллигенции, которая участвовала в травле. В принципе, среди них были мерзавцы, но были и люди, в принципе, благородные, талантливые, все принадлежали к интеллигенции, но все они оказались сталинистами, которые предъявляли Эткинду обвинения, но, конечно, под руководством КГБ, они ему предъявляли претензии за статьи, за которые его уже били в одной из самых страшных эпох, которую я хорошо помню — борьбы с космополитизмом, то есть при Сталине, в 40-е годы. И сейчас ему предъявляли счет за те годы. Сталин умер в 1953 году, а в 1974-м Эткинду говорят люди, которые знают все документы, которые сами все это пережили, предъявляют ему эти обвинения и единогласно голосуют за снятие ученых степеней, лишение профессорства. И ещё разгром его учеников, он был необыкновенно популярным человеком в Ленинграде.
Что это? Это житье сталинизма без Сталина. До перестройки оставалось 11 лет. А в перестройку, а после перестройки, а уже в новом тысячелетии я наблюдаю то же самое, потому что это генетика, и она не ушла. Каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее
Каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее.
И там он обнаружит, что мы живем на этой земле, мы живем в этой стране и в ней есть страшная опасность того, что мы в себе обнаружим эти самые гены. Они идут от абсолютной власти, от времен ужаса, страха второй половины царствования Ивана Грозного и от Ивана III, от впитывания черт именно того древнего совсем уже, прямо скажем, татаро-монгольского владычества. Я понимаю, что специфическое сознание обожествления человека, величайшего греха, наказуемого греха, наша перестройка, которая действительно хотела, по крайней мере, по тому, что я очень хорошо помню, по двухсоттысячным митингам, по горячности, по реакции на то, что выходило в виде книг, журналов, статей и всего прочего, казалось, что оно, это сознание, перевернется, но оно не перевернулось. Генетически мы все заражены этим микробом. При Сталине очень многие из мыслящих людей таили свои внутренние несогласия. А в Германии, насколько я знаю, опять-таки через мои актерские дела я знаю, это пронизывало до дна и становилось собственным убеждением, но когда пришло другое время, не просто глаза открылись, со дна все вычерпали и стало другим. В моей стране иначе несколько. Я жил в сталинское время, я знаю страхи, некую двойственность мышления людей, поведения людей, откровенности людей друг с другом, пусть шепотом, пусть даже молча, в глазах, но все существовало как вариант, это не было тем абсолютом, поднятой в жесте «хайль» рукой, которая была в Германии. Наш грех, наша вина и наш осадок. Как тогда при Сталине в очень многих людях оставался осадок несогласия, не во всех, потому что масса все-таки была приказно оптимистична, так сейчас остается осадок сталинизма. В этом смысле мы устроены как-то двойственнее, можно сказать гордо — сложнее, но хватит уже гордиться всем, во всяком случае двойственностью. Это я наблюдаю даже сейчас в период какого-то скоса национального сознания, но этот скос меняет угол, он то скошен почти на 90 градусов, то есть просто падение какое-то, то на 80, а то на 45. Юмор, за который иногда сажали в тюрьму, юмор — это наша специфика, может быть даже спасительная.