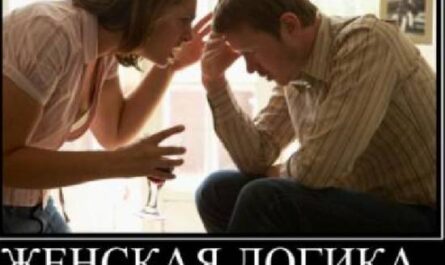Слово «имперский» часто используется для объяснения повышенного, мягко скажем, интереса России ко внутренним делам соседних стран, а уж после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе разговоры про имперские амбиции (комплекс/менталитет…) и вовсе стали общим местом. Подчёркивают, что это не просто политическая линия власти, а массовые настроения среди россиян. От украинских, белорусских и польских знакомых мне приходилось слышать, что даже самый либеральный, оппозиционный, проукраински настроенный россиянин рано или поздно «проколется» и выдаст свою имперскую сущность.

Совершенно не хочется оправдываться и доказывать, что не все мы такие (хотя, признаться, я сама иногда ловлю себя на мыслях, которые бы сильно не понравились моим западным друзьям). Куда любопытнее — понять, из чего именно складывается эта (именна эта, российская) имперскость: из каких фактов, концепций и чувств она вырастает и как действует логическая цепочка. Потому что часто имперскость понимается просто как ненависть и высокомерие, а это ошибочно и ничего не объясняет.
Мои рассуждения — взгляд того, кто в антропологии называется экпертом в поле: представитель изучаемого сообщества, который достаточно разбирается в проблеме, чтобы анализировать и обобщать. Это попытка сформулировать то, что «разлито в воздухе» в России, среди чего я выросла и что я очень хорошо понимаю, даже если не согласна.
Вообще, стоит сразу уточнить: большую часть описанного ниже я не разделяю, на чём-то себя ловлю и пытаюсь преодолевать, а что-то считаю вполне нормальным и естественным. Нужно также подчеркнуть, что это «усреднённый» взгляд из европейской части России и, более того, – из Москвы: он, возможно, отличается от взгляда из других регионов. И ещё: когда я говорю об украинцах и белорусах, я имею в виду первую очередь их «национально ориентированных» представителей.
Язык
Увы, это правда: для нас очень смешно звучат не только украинский и белорусский языки, но и вообще все славянские, потому что все они воспринимаются как искажёный, «детский» русский. Конечно, это очень неприятно носителям языка, но с другой стороны — я обнаружила, что, например, полякам смешон чешский язык, а, например, русский, украинский, белорусский — нет. Почему так — интересная тема для психолингвистов, но понятно одно: это никак не связано с имперским высокомерием.
Другой вопрос — почему россияне не стесняются показывать, насколько им смешно? Дело в том, что для большинства из нас, в отличие от украинцев и даже белорусов, абсолютно непривычно, непонятно явление двуязычности.
Нам действительно сложно представить себе, что в обществе функционируют два языка, а уж тем более — что для одного человека оба из них могут быть в равной или почти равной степени родными. Поэтому когда мы слышим (или знаем), что человек говорит по-русски так же хорошо, как мы, его речь на другом языке кажется нам в лучшем случае баловством, а в худшем — вызовом и оскорблением. Да и попросту кажется, что раз человек говорит по-русски, то и второй язык ему также смешон — почему бы не посмеяться вместе? Это усугубляется тем, что языки действительно близки, то есть другой язык кажется не вполне полноценным: «Зачем нужен такой смешной язык, если он похож на русский, а по-русски, то есть «по-нормальному» все могут? Чего выпендриваться!» — вот как примерно это воспринимается многими.
По той же причине россияне часто не считают нужным пользоваться словарём при переводе, что приводит к большим искажениям, причём не только смысловым, но и (что, может быть, важнее) интонационным. Вот интересная ситуация, описанная одним из российских блогеров:
«Набридла мені ваша Росія, ваші брехливі суди, ваше брехливе телебачення!» — сказала в «суде» Надежда Савченко.
И дружественное к Украине (!!!), антипутинское российское СМИ выдает заголовок: «Обрыдла мне ваша брехливая Россия». То есть у них Савченко выражается, как базарная торговка в плохом советском фильме.
В то время как она сказала: «Надоела мне ваша Россия, ваши лживые суды, ваше лживое телевидение».
Вот что ещё важно: наше представление об украинском и белорусском языках сильно искажено. Чаще всего оно формируется не на основе литературного языка, а на основе суржика или трасянки, с которыми россияне сталкиваются чаще, а то и вовсе русского языка с акцентом и отдельными странными словами… Когда я в возрасте 15 лет, впервые познакомившись с украинцем, говорившим по-русски с легчайшим акцентом, на полном серьёзе спроила «это и есть украинский язык?» — это ещё можно понять. Но когда взрослые, демократичных взглядов российские журналисты с удивлением обнаруживают, что, оказывается, белорусский — это не то, на чём говорит Лукашенко…
Есть и ещё один момент, который приводит к драматическому непониманию: русская культура литературоцентрична, а значит, язык для нее является особенной, почти мистической ценностью (об этом пишет, среди прочих, американский антрополог Нэнси Рис в книге «Русские разговоры»). Для нас интуитивно русская культура везде, где русский язык, тем более огромная часть русской классики (начиная как минимум с «Мёртвых душ») — эмигрантская литература. Поэтому страны, где говорят по-русски, непроизвольно воспринимаются как страны с нашей, русской культурой. Мой белорусский друг как-то поразил меня фразой «У русских нет монополии на русский язык» — поразил именно потому, что подсознательно-то нам кажется, что есть! «Где русский язык — там русская культура» — увы, от такого упрощённого умозаключения несложно дойти до «где русская культура — там должны быть русские танки».
Идея о том, что на основе одного языка могут существовать разные культуры, а одна культура — на основе разных языков, что вообще эти границы очень условные и зыбкие, очень сложна для большинства людей. Сложна она не только в России. Скажем прямо: многие белорусские и украинские националисты готовы уступить русским эту монополию на русский язык, тем самым, на мой взгляд, обедняя собственную культуру.
Культура
Какой образ Украины существует в нашем сознании с детства, ещё до того, как мы задумаемся о ней как об отдельной стране? В первую очередь это живописная малоросская романтика «Вечеров на хуторе близь Диканьки»: вот казаки (которые совсем не борцы за свободу, а просто такие смешные персонажи, с чубами и в шароварах), хаты, красавицы, вкусная еда… Это воспринимается, как внутренняя экзотика, как практически наша традиционность. Едва ли есть в русской литературе, по крайней мере в школьной программе, столько же колоритное описание «великоросской этнографии». Такая мифологизированная Украина-Малороссия – огромная часть русской культуры, нечто родное с детства и очень любимое.
При этом важно, что казаки эти — совершенно лояльны Империи: вот они, в «Ночи перед Рождеством», стоят на коленях перед матушкой императрицей. Это, увы, идеальный образ Украины для многих россиян: не потому, что её хотят подчинить, а потому что это кажется нормальным, изначальным порядком вещей. Нам сложно «простить» Украине, что она в реальности другая: даже Дмитрий Быков, выступающий против российской военной агрессии, писал о том, что «Украина сейчас перестала быть гоголевской». Как будто до этого она реально была именно такой и вдруг, после Евромайдана, перестала…
Другой аспект (к вопросу о разделении и переменчивости границ языков, культур, стран) — русская культура (досоветская) на территории тогдашней Малороссии. Многие русские классики родились, выросли на территории современной Украины и/или были связаны с ней. Это та же проблема Кресов, с которой сталкиваются поляки (и тоже не всегда могут удержаться от имперской ностальгии, прямо скажем). Ахматова, Чехов, Ильф и Петров, Бабель, Булгаков… Для меня из этого совсем не следует, что у современной России есть какие-то права на эту территорию, но относиться к ней, как к обычной загранице, чему-то чужому — невозможно. Львов был городом польской (и австрийской) культуры, а Киев — городом русской культуры; украинская культура, как и многие другие в Центральной Европе и во всем мире, развивалась, в основном, вне городов. Это не имперский снобизм — это историческая реальность. В «Белой гвардии», которая наполнена нежной любовью к Киеву, нет, кажется, ни одного намёка на национальную украинскую тему — это не говорит о Булгакове как об имперце и не умаляет ценность украинской культуры. И само собой — Крым: последние полтора века он больше был связан с русской культурой, чем с украинской, и это мнение ничуть не мешает мне быть против аннексии, считать референдум нелегитимным и ужасаться происходящему. Но только сейчас даже заикаться об этом не хочется, чтобы не получить ярлыка «имперец».
Но особенно, пожалуй, печально наше непонимание в том, что касается отношения к советскому прошлому. Очень многим из нас дорога та общность, которая сложилась тогда: не дружба народов, быть может, но дружба людей разных народов и культура, которую они создавали (и в рамках цензуры, и вопреки ей). И это никак не связано с приверженностью идеям коммунизма, идеализацией советской власти или отрицанием репрессий (в том числе по национальному признаку). Идея о том, что в СССР русские угнетали другие народы, нам чужда и оскорбительна. Для нас дело в том, что мы все были «в одной лодке»: и хорошее, и плохое было общее. С одной стороны – репрессии и всё плохое, что исходило от режима, с другой стороны – общая культура «от Владивостока до Бреста», в том числе культура неофициальная, дружеские связи и т.п. Кино, мультипликация, музыкальные субкультуры (авторская песня, рок) в значительной степени — литература, в том числе самиздат, были вненациональны, легко пересекали границы республик. Можно сказать, что на уровне творческой интеллигенции в СССР существовал плавильный котел. Этот огромный культурный пласт общей культуры объединял если не все страны бывшего СССР, то, по крайней мере, наши три – точно. Ещё поколение 1980-х годов рождения выросло на одних и тех же мультфильмах, мы можем вместе петь песни, узнавать цитаты. Да, сейчас я понимаю, что во многом оборотная сторона этой радужной картины — репрессии в отношении национально-ориентированной интеллигенции, но, во-первых, (увы!) в массовом российском сознании этот факт отсутствует, а во-вторых — для меня это не умаляет ценности той культуры, которая была создана.
Часто нам кажется, что украинцы и белорусы, культивирующие и подчёркивающие именно свою национальную культуру, «отрекаются» от этой общей, от того, что нам дорого и что казалось самой надёжной основой нашего взаимопонимания. При этом, увы, россияне считают себя правопреемниками СССР не только юридически, но и культурно: с одной стороны культура была общая, с другой стороны, поскольку Россия (особенно, наверное, Москва) стягивала огромную часть творческих ресурсов, а развивалась культура в первую очередь по-русски, иногда возникает обманчивое ощущение, что это всё в первую очередь наши, российские достижения.
В этом смысле, как и с языком, я бы советовала украинцам и белорусам не отдавать россиянам «монополию на советскую культуру», не выплёскивать с водой ребёнка, а показывать, что общий культурный пласт вполне может сочетаться с политическим расхождением. Прекрасный пример — клип на песню Окуджавы «До свидания, мальчики» (исполнительница — Юлия Сиончук) с украинскими военными, едущими на войну. Даже для меня, со всеми моими рефлексиями, это был, что называется, разрыв шаблона и удар поддых: как же так, «наш» Окуджава, а война — с нами же… Думаю, это намного острее показывает дикость происходящего, чем не менее пронзительное «Никогда мы не будем братьями».
История
Также, как роднит нас культура, роднит нас, по мнению многих россиян (и моему, в том числе) трагическая история. Поскольку Россия довольно справедливо воспринимается как захватчик, россияне, с перспективы многих украинцев и белорусов, должны нести ответственность за угнетение и репрессии в отношении других народов. Россияне же, по большей части, этой ответственности и вины не чувствуют — потому что сами были жертвами! Идея «и хорошее, и плохое было общим» приводит к восприятию репрессий как какого-то внешнего исторического зла, которое в той или иной мере коснулось всех, и собственно русских тоже. В этом много справедливого: я убеждена, что репрессии против духовенства, раскулачивание, расправа с дворянством, интеллигенцией и т.п.— всё это нанесло русским не меньший удар, чем украинцам — Голодомор или белорусам — расстрел к Куропатах. Единственным отличием было то, что русских никогда не репрессировали за язык, на котором они говорят.
Мне бы хотелось, чтобы мои сограждане научились нести ответственность за исторические ошибки и преступления своих предков, но точно также хотелось бы, чтобы наши «соседи» не считали своих предков исключительно жертвами. Как будто среди тех, кто расстреливал, высылал, на ком много лет держался режим, не было украинцев, белорусов и представителей всех других народов! Идеологический разрыв, очевидно, не проходил по национальной линии — если, конечно, не проводить обратной подмены и не считать «настоящими» украинцами только тех, кто был против коммунистического режима.
Проблема российского общества не в том, что оно не рефлексирует на тему своей вины перед другими народами, а в отношении к жертвам вообще. Отдельный человек чаще всего незначим, неинтересен, не учтён; репрессии, как и другие бедствия, воспринимаются с фатализмом, почти мистически: это бездонный колодец жертв и страданий, в который проваливаются без осознания и осмысления даже не отдельные люди, а целые огромные сюжеты. Поэтому неуважение, отсутствие интереса к жертвам репрессий в «союзных республиках», расстрелянным в Катыни и т.п. связано вовсе не с чёртствостью или национальной нетерпимостью, а с этим страшным российским масштабом, при котором спорят о колличестве миллионов, но упускают из виду отдельного человека, и воспринимают расстрелы и искусственный голод как часть общей неизбежной ужасности мира. Уверена, эту ситуацию можно изменить — такую надежду даёт «Возвращение имён», «Последний адрес» и другие подобные проекты. Несмотря на общую ситуацию в России, они активно развиваются и находят большой отклик.
Вообще, по крайней мере одна из причин нашего исторического непонимания проста — учебники. Насколько я понимаю, в Украине их после 1991 года переписали довольно радикально. Что же касается России, то изменилась, конечно, оценка советского и досоветского периода, появилось много новых фактов, но… истории Украины и Беларуси в российских учебниках истории нет. Она рассматривается как часть истории России («воссоединение», защита православных и т.п.) или не рассматривается вовсе.
Тот самый украинский юноша, с которым я познакомилась в 15 лет, рассказывал мне тогда про историю Украины (три года спустя при подобных обстоятельствах я узнала и про Беларусь). Тогда меня не столько поразило содержание того, что он рассказывал, сколько сама мысль о том, что есть какая-то отдельная история Украины. На дворе был 2001 год, я была старшеклассницей из интеллигентной либеральной семьи, пошедшей в школу уже в постсоветское время… Моим ровесникам из Украины сложно понять, как такое возможно. Увы, это имперское восприятие было (и остаётся) разлито в воздухе, но если бы были учебники, если бы кто-то понял тогда, как важно именно это проговорить, а не оставить за кадром…
С другой стороны, есть ещё один аспект, который усугубляет пренебрежительное отношение россиян к украинской и белорусской государственности — это собственные национальные версии истории в их крайних вариантах. Во всех наших странах есть добросовестные историки, которые, как это обычно бывает с профессионалами, педантично, без сенсаций, пафоса и внимания широкой публики обсуждают конкретные вопросы (блестящий пример — книга Г.Касьянова и А.Миллера «Россия-Украина: как пишется история», которую можно найти также онлайн), а есть — хронология Фоменко и происхождение украинцев от трипольской культуры. Разумеется, серьёзные книги мало кто читает, а вот словосочетание «древние укры» страшно забавляет российского обывателя и становится ярлыком, который навешивается на любые попытки рассказать что-то об украинской истории. Впрочем, любая историческая работа, даже вполне серьёзная и добросовестная, как известно, лишь интерпретация — об этом полезно помнить тем, кто воспринимает новую, национальную трактовку истории как раскрытие объективной истины.
И, конечно, говоря об истории, нельзя не вспомнить Киевкую Русь: само сочетание сейчас вызывает печальную усмешку. «Киев — мать городов русских» — знаем мы с детства, и долго потом ещё не может понять и принять, что мать эта находится за пределами нашей страны. Это не просто клише, это одна из основ национального мифа и элемент идентичности — что-то вроде горы Арарат, находящейся за границами Армении. Напомним снова и о том, каким российским был Киев по культуре ещё при Булгакове…
Сложно, пожалуй, найти россиянина, у которого нет знакомых в Украине (в Беларуси — в меньшей степени) или родом оттуда. Между нами существует огромная сеть родственных и дружественных связей, смешанные браки, постоянные культурные связи, бизнес… За счёт этого (плюс, конечно, за счёт ассимилированных украинцев в России) создаётся обманчивое ощущение, что мы хорошо, изнутри знаем, что есть Украина, впечатление, что украинцы — это те же русские, только забавные такие, экзотические. Такой пресловутый младший брат, которому позволяется самостоятельность строго в определённых старшим границах.
Помимо метафоры «братьев» есть другая, которая кажется более точной и ёмкой: Россия – муж, Украина – жена. Тут всё: и любовь, и насилие, и обаяние, и своенравный женский характер, и эмансипация, и попытка «уйти к другому»… Подчеркну первое — и, как ни странно, главное: любовь. Это то самое ужасное и очень российское «бьёт — значит, любит». Пусть это прозвучит как нелепое и неубедительное оправдание, но — россияне очень любят Украину. С непониманием, нежеланием видеть правду, высокомерием и грубостью — но это именно глубокое чувство родства, причастности, неравнодушия. Одни, ведомые этим неравнодушием, пытаются спасти свою воображаемую Украину от чуждых американцев, коварно втёршихся ей в доверие, другие наоборот — кричат от боли и ужаса, видя, что происходит по вине России с Украиной настоящей. Но почти никому из нас Украина не чужая — и для моего поколения уже точно никогда не будет чужой.
Конечно, сейчас наша любовь приняла совсем уж невротическую и дикую форму, но я бы хотела, чтобы в ней всё же видели не всплеск необъяснимого бешенства, подпитанный пропагандой, а глубокое и горькое чувство, которое до сих пор не может найти себе достойного и цивилизованного воплощения.
Несмотря на государственные границы и прошедшие 25 лет, для москвича, скажем, Украина и Беларусь куда ближе во всех смыслах, чем далёкая Сибирь или национальные республики в составе России. Это не просто соседние страны, а важные элементы собственно российской идентичности. Чтобы начать по-новому видеть Украину и Беларусь, россиянам надо сперва по-новому увидеть себя, полностью деконструировать свою историческую и культурную идентичность – примерно до состояния начала XVII века — и выстроить её заново на какой-то другой основе. Какой — сложно сказать, пока это звучит утопично. Но я верю в то, что для России возможна иная картина мира: такая, в которой братья как взрослые и вменяемые люди не только любят, но уважают друг друга — и при этом остаются братьями.
Валентина Чубарова
От редакции Эхо России: Валентина Чубарова родилась в Москве и сейчас проживает в Варшаве. Текст ее дебютной публикации, представленный выше, основан на ее выступлении перед варшавскими студентами около двух лет назад.
Мысли, изложенные в публикации, не претендуют на истину, а приглашают нас к размышлению. Валентина Чубарова сумела представить это не с политической, а с человеческой стороны и попыталась раскрыть то, до чего у других не дошли руки.
Виктор Шендерович воспитал достойную дочь