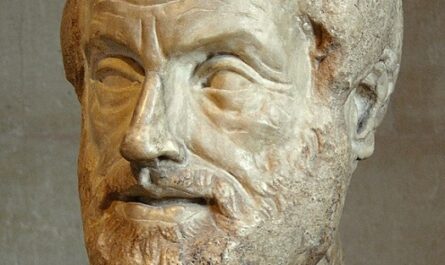Почему Утёсов? А что вы хотите, чтобы я говорил в Одессе, где живу этим августом? За кого вспоминает, за кем скучает Одесса, если не за королём советского шансона? Я сижу с ноутом на балконе старого одесского дома, а напротив у меня караоке «Утёсов». В Городском саду Одессы ему стоит бронзовый памятник работы скульптора Токарева на бронзовой же скамейке, чтобы каждый мог с ним посидеть и зафоткаться. Там ещё рядом стоял музыкальный автомат в виде телефонной будки, чтобы каждый мог поставить песню Утёсова, но его разрушили вандалы. А что же, мы сами не помним песни Утёсова и не можем их спеть, когда захочется, внутри себя, а то и вслух?
Первое бегство
Утёсов говорил о своём рождении: «Я уже тогда был джентльмен и уступил дорогу даме». Действительно, у него была сестра-близнец Перля, которую он пропустил вперёд на 15 минут. С детства он был необычайно артистичен и наделён абсолютным слухом. Из знаменитого в Одессе частного коммерческого училища Файга был отчислен — причины точно не скажет никто, но, в общем, его совершенно не интересовала учёба. Интересовал его цирк, куда он постоянно бегал, и музыка (уроки игры на скрипке он брал с восьмилетнего возраста). На свои первые гастроли он поехал с бродячим цирком Бороданова в 1911 году — зазывал зрителей и подрабатывал гимнастом. Ой, тут были у него истории, у него всегда были истории. Они поехали в Тульчин, там у него случилось в лёгких воспаление, и он там чуть не женился на девушке Ане, в доме которой его положили. Никто же не знал, что ему только шестнадцать. Он выздоровел и сбежал в Одессу, якобы за родительским благословением, и у семьи так называемой невесты попросил на дорогу рупь семьдесят — у него совсем ничего не было. Прошли, как говорят в Одессе, годы. Он выступал в Киеве, в кафе позвал за свой стол красивую женщину. Она говорит: закажите мне ужин только на рупь семьдесят, это ваш долг. Нет, вы можете себе представить? Это была Аня, она пела теперь в кафешантане! Чи он это выдумал, чи не выдумал, но так рассказывал.
Леонид Утёсов, он же Лазарь Вайсбейн, чтобы он там так был здоров, как мы тут его помним, родился 10 марта (по-старому) 1895 года, на заре последнего царствования, и умер почти в тот же день, но по-новому, 9 марта 1982 года, на закате советской империи.
87 лет по меркам ХХ века — ой, это очень много. Жизнь его была пёстрая, знал он славу и запрет, и чем больше был запрет, тем громче слава. Он создал самый известный советский музколлектив и снялся в первой советской музкомедии. Он спел самые знаменитые блатные и самые известные патриотические хиты своей эпохи. Он был праздник, вот что такое был Утёсов, если вы хотите знать, и больше такого не будет, потому что исчезла сама культура советского праздника. Но оглядываться же никто не запретит.
В Одессе он познакомился с молодым артистом Скавронским, они стали работать в паре. Скавронский познакомил его с антрепренёром Шпиглером. О, вы не знаете, что такое Шпиглер! Живот у него был такой, что сначала входил этот живот, а уже потом, сильно погодя, Шпиглер. Видно было, что человек понимает за искусство. Он привлёк Утёсова к оперетте, где могли найти применение и его музыкальный дар, и драматическое дарование. В свои семнадцать он играл комических стариков, очень бойких. Его сценическая карьера началась в Кременчуге. Что вы хотите, это был влиятельный город! Там он впервые стал выступать под псевдонимом Утёсов, потому что Вайсбейн — это не товар. А Утёсов — это он придумал у моря, глядя на утёс. Ну ведь красиво же ж? Кроме того, у него оказался дар к сочинению комических куплетов: как вы щелкаете орехи, так он сочинял куплеты. И плюс у него был дар имитации — он мог пародировать мужчин, женщин, слона в зоопарке он мог пародировать! Он в театре умел всё. Скоро ему начали предоставлять площадки для целых вечеров в двух отделениях, уже он в Киеве показывал свои пародии — два на тогдашней эстраде были таких универсально одарённых молодых человека: один из Киева, второй из Одессы, один такой в маске Пьеро, такой Вертинский, второй комический, в канотье,— так это был наш. Ну, я не скажу за Утёсова, что он был большой поэт, и песни его вся Россия не запела, как пела она Вертинского,— но зато Вертинский выступал всю жизнь с аккомпаниатором, а наш умел играть вообще на всём, такого не было инструмента, чтобы он не умел. На гитаре он в своё время подыгрывал даже ещё в оркестре Ярчука-Кучеренко, с двенадцати лет, ну там скрипка, фортепиано — это само собой, и форте, и пьяно. Ему бы дали какое-нибудь укулеле — он и на нём бы изобразил.
В четырнадцатом году он женился на Лене по фамилии Голдина, по сценическому псевдониму Ленская: они стали выступать вместе. Она была его старше на два года — ну, кто вам считает. Скоро родилась у него дочь Эдит, Дита, которой суждено было спеть с отцом десятки знаменитых дуэтов, из которых самым долгоиграющим хитом оказалась песня про прекрасную маркизу.
Тут надо, как говорят в Одессе, пояснить за контекст. Шо такое двадцатый век? Это время синкретизма. Это время, когда искусство выходит в жизнь — и образуется жизнетворчество; когда живопись шагает на тарелки — и получается дизайн. Когда учёный або критик выходит на эстраду — и получается Корней Чуковский, жанр лекции, в котором блистала вся тогдашняя литература. Уже всю Россию объездили они со своими лекциями. Это время, когда выходит на литературную арену футуризм — и получается скандал. Это время кино — синтеза всех искусств: драматического, изобразительного, музыкального. Ну и Утёсов — типичный синтетический артист: он на эстраде умеет всё и всё делает. Он играет на всём, поёт на разных языках, пародирует, читает с эстрады прозу, пишет стихи на злобу дня, и немудрено, что выступления его строятся на синтезе музыки и театра. Ему мало создавать музыкальный коллектив. Ему надо, чтобы это был коллектив театральный. Чтобы они не только себе играли, а каждый мог ещё войти в роль.
Он в это время не один, потому что, помимо Вертинского, есть ещё такой Юрий Морфесси, который, чтобы вы запомнили, первый начал с эстрады исполнять «Раскинулось море широко». И тоже он каждую свою песню подавал как драматическую миниатюру. Тогда же стала блистать Иза Кремер, роковая женщина с Одессы и жена редактора «Одесских новостей» Хейфеца. Она покоряла Питер и Москву, но что значительно больше — она покоряла Одессу, где её шансонетки пели просто всё. Тогда же Плевицкая — о, Плевицкая! Вы знаете Плевицкую? Она была любимая певица императора. Вы знаете императора? И тоже она на эстраде была в образе, тоже всегда каждую песню делала как роль. Эстрада одинаково влияла на Ахматову и Маяковского, эстетика вывесок и всё такое, и личная жизнь человека искусства тоже стала нараспашку. Вот Утёсов оттуда, там его корни, из этого же вырос потом Высоцкий, но уже пятьдесят лет спустя, потому что русский путь был искусственно прерван. И от этого Морфесси, Плевицкая, Вертинский и Кремер уехали. Вертинский вернулся, Кремер умерла накануне возвращения. А Утёсов не уехал, он остался и получил за всех, но как-то уцелел.
Во время империалистической войны публика ломилась в залы как шумашетчая, чтобы как-то отвлечься от всего этого безумия. Накануне революции Утёсов стал звезда всероссийского масштаба.
Одесский десант
Когда сначала в Петербурге, а потом в Москве случилась эта их революция, от которой будто бы исполнились мечты трудового человечества,— наш Ледя, как звали его друзья, уже был в Москве и выступал в кабаре на Тверской с чтением серьёзной прозы. Москва ему тогда не понравилась: холодный город, холодная публика… Не дождавшись конца гастролей, он сбежал в Одессу, и там ему жал руку, благодаря за доставленное удовольствие, кто? — Котовский! Котовский был, без преувеличения, самая колоритная фигура русской революции. У каждого русского эстрадника был свой демон, влюблённый военный, покровительствовавший искусствам. У Вертинского это был Слащёв, впоследствии Хлудов у Булгакова, вызывавший Вертинского в Ялте петь по ночам. У Плевицкой — Скоблин, который её и погубил. У Утёсова это был Котовский, который ночами после выступлений у него просиживал, повествуя о боевых подвигах. Котовский был одесский и бессарабский бандит, человек не без шику, опасный, которого Сталин убрал за год перед тем, как дотянуться уже и до Фрунзе,— иначе с чего бы дело о его убийстве было до сих пор засекречено и мотивы неясны, а обвинённый в этом убийстве Мейер Зайдер выпущен из заключения и тоже таинственно убит? Не нужны были товарищу Сталину настоящие герои, он сам хотел быть единоличный герой Гражданской войны. Спросите в Одессе любого, вся Одесса это знала.
Тут деликатный момент. Все одесситы по достижении творческой зрелости из Одессы уезжают в мировые столицы, чтобы потом всю жизнь писать об Одессе, скучать за Одессой и мечтать вернуться в Одессу на покой. Это пока ни у кого не получилось. Тоска по приморскому нашему городу — это такой жанр, такой, рискну сказать, национальный спорт. И Утёсов уехал из Одессы в Москву в 1921 голодном году и здесь начал свою карьеру эстрадного сатирика в Театре революционной сатиры, которым руководил Давид Гутман — человек, кстати, подсказавший Вертинскому маску Пьеро.
В Москву тогда хлынули люди с юго-запада: киевлянин Булгаков, одесситы Бабель, Олеша, Катаев, Багрицкий, Ильф и Петров (тогда Файнзильберг и Катаев-младший) — в Москве делалось новое искусство и были деньги. Как относился Утёсов к новой власти? Ну, в Одессе он с равным успехом пел и танцевал перед Добровольческой и Красной армией, и это, как замечал адмирал Колчак, общая участь всех артистов, журналистов и извозчиков. Но в принципе, несмотря на мелкобуржуазное происхождение, Утёсов сочувствовал трудовому народу — все одесситы, пережив в городе несколько властей, склонились к большевикам. У одесситов врождённое чутье на жизненную силу, и у большевиков эта сила была,— вот почему молодая талантливая литературная и театральная поросль осталась в России и перебралась в Москву, где начала создавать культуру новой эпохи.
Для Одессы — в литературе, кинематографе, театре — что характерно? Две вещи: тотальная ирония (она, по словам Петрова, заменяла мировоззрение) и культ профессионализма — дело должно быть в руках, дело. Это пошло в русской прозе ещё с Куприна. И отсюда же культ формы, меры, точности. Вот Утёсов был Бабель в музыке. Каждая его вещь — законченная, виртуозно отработанная театральная миниатюра; звукозаписи не передают половины его очарования. Он прав был, говоря, что в Америке джаз был порождением негритянских оркестров, а в Одессе — клезмерских (традиционная народная музыка восточноевропейских евреев.— Ред.): каждый играет что хочет, а вместе — гармония. Джаз — действительно культура угнетённого меньшинства, которое ищет свободы хоть в музыке: джаз — то, что негры и евреи играли на свадьбах. И когда в Москве началась мода на джаз, Утёсов создал свой театрализованный джазовый оркестр, который обеспечил ему славу и доход на всю жизнь и славу после.
Теа-джаз
Утёсов был такой русский Чаплин: в театре он умел всё, и не зря его шестичасовое ревю называлось «От трагедии до трапеции». Спортивный, лёгкий, первоклассный наездник, жонглёр, гимнаст, что хотите, играет и поёт, гигантскую роль учит за трое суток. В Москве и Ленинграде он стал эстрадной звездой, но, как всякий одессит, хотел большего. И в 1929 году он собрал свой джаз-оркестр, потому что знал главный одесский принцип: хорош тот коллектив, который собран из маргиналов, из тех, кому везде неуютно. Вот им вместе может быть ничего себе, и описан этот принцип, на пример, у Бабеля в последней его прозе — киноповести «Старая площадь, 4». Там про строительство дирижаблей, и собрались на это строительство невписавшиеся люди во главе со старым большевиком, которому тоже в тридцатые годы неуютно. И вот он собрал таких воздухоплавателей, и все вместе они научились строить дирижабли, хотя у них была поначалу проблема — плохо работала связь головы с хвостом. Гениальный можно было бы снять фильм, но до сих пор почему-то ни у кого руки не дошли. Алло, Одесская киностудия!
И он собрал своих гениев, которые в других коллективах не приживались, и 8 марта в саду отдыха близ Аничкова дворца, что на Невском, они дали свой первый концерт. Базовой площадкой для утёсовского оркестра стал Московский мюзикхолл. Сегодняшнему человеку это название мало что говорит, а в тридцатые это был лучший зал Москвы, где показывались музыкальные ревю, оперетты и капустники.
И вот смотрите, какая удивительная вещь: мы вроде представляем себе тридцатые как монолитный соцреализм, ночной террор и всякая вещь. И такое представление, безусловно, имеет право быть. Но Булгаков в «Мастере и Маргарите» точней всего воспроизвёл атмосферу тридцатых, и ужасть, самая глубокая ужасть была в том, что всё это время страна надрывно праздновала! Это было время ужасного веселья. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей. Приказано было ликовать, и ликовали. Главным жанром в искусстве стала комедия (ну и триллер с разоблачением вредителей, но этого было меньше). Главной актрисой была Орлова, главным режиссёром — Александров, главным музыкантом — Утёсов. Всё прямо пело. При этом Утёсова много критиковали за тексты, потому что он как-то умудрялся петь не только советские песни или, допустим, народные, но также и блатные, и всякий городской романс, и одесские песни весьма дурного вкуса. Про него писали: музыка — да, таких не только у нас, но и на Западе практически нет. Но тексты — мещанские, надо работать. А пластинки между тем выходили, и они так дорого ценились, что в одной тоже комедии тридцатых герой-завхоз обещал за одно утёсовское «Пока» достать три вагона леса! А в песне «Пока» ничего особенного — это переделка американского «Доброго утра», такой был хит двадцатых, и множество вообще песенок Утёсова были переделками европейских и американских хитов. Например, «Когда утро рассыпает золото», который он пел с дочкой, или «Пароход», который пел весь его оркестр. «Ах, не солгали предчувствия мне, нет, мне глаза не солгаа-а-а-али!»
И он аж в тридцатые безнаказанно пел — и это выходило на пластинках!— «С одесского кичмана сбежали два уркана», и «Бублички», и советские переделки блатной классики, с новыми словами, но мелодии-то все знали! Парадокс в том, что политбюро очень всё это любило. Есть воспоминания о том, что, когда вожди собирались в своём кругу, Жданов трень-бренькал на фортепьяно, а товарищ Сталин хриплым тенорком пел наипохабнейшие частушки. При этом лично Утёсова Сталин не жаловал, что-то он в нём такое чувствовал,— но не запрещал. Однажды на кремлёвском концерте его прямо попросили спеть что-то из блатного репертуара. Он отказался. Ему настоятельно повторили: просьба от Сталина. «Если это приказ, я спою». Ему подтвердили, и только тогда…
Вот насчёт отношения Сталина к нему действительно всё сложно. Тут мы даже отбросим одесский говорок. У Сталина, при всех его бесспорных пороках, было некоторое эстетическое чутье, позволявшее ему по крайней мере определять именно внешний облик сталинской эпохи — то, что Пастернак называл «стиль вампир». И эта стилистика была очень не чужда циничного юмора — в том числе одесского. Вождю очень нравилась дилогия о Бендере. Фадеев боялся издавать «Телёнка» отдельной книгой — а нарком просвещения Бубнов потребовал разрешить, вряд ли по личной инициативе. Ильфу и Петрову многое прощалось, их в Штаты отправляли, к их советам по организации кинематографа прислушивались. Сталин тех времён был ироничен.
Конечно, эта ирония не должна была касаться его самого — товарищ Качалов не вовремя прочитал на кремлёвском банкете несколько басен товарища Эрдмана, и сценаристов «Весёлых ребят» Эрдмана и Масса, ближайших друзей Утёсова, взяли прямо на съёмках. Но съёмки продолжались как ни в чём не бывало, и после выхода «Весёлых ребят» Утёсов стал главной звездой комедийного жанра — наряду с Орловой, которую Сталин обожал. Однажды, опять-таки на кремлёвском приёме, он так и сказал товарищу Александрову: «Если вы когда-нибудь обидите товарища Орлову, мы вас па-авесим!» «За что?!» — комически удивился товарищ Александров. «За шею»,— остроумно ответил главный друг советских комедиографов.
«Весёлые ребята»
Вот тут надо несколько подробней про «Весёлых ребят», потому что это музыкальное кино 1934 года задало стиль эпохи. Оно и сейчас неплохо смотрится. Сюжет — ну что вам сказать за сюжет, это обычный каркас для музыкальных номеров, сплошные квипрокво с незамысловатой мыслью о том, что настоящее искусство делается народом, а не аристократами или интеллигентами из бывших; построено всё так, чтобы дать Утёсову и Орловой продемонстрировать максимум своих умений, ну и Александрову тоже — он всё-таки был любимый ученик Эйзенштейна и очень умел монтаж аттракционов. Там есть упоительные сцены, когда, представьте себе, пастух приходит в гости в культурную дачу и начинает играть на дудочке, ну и все его животные приходят туда же и ведут себя совершенно как свиньи. Потом ещё там потрясающая драка в оркестре, все мочат друг друга музыкальными инструментами, возникает невероятная какофония — и вы не думайте, что это так несерьёзно, из этого сорок лет спустя выросла «Репетиция оркестра» Феллини! Драка, музыка, эксцентрика — всё, чтобы показать Чаплину, Китону и Ллойду (начальные титры, что они в картине не участвуют): мы тоже можем, мы лучше можем! Под названием «Москва смеётся» картина обошла весь мир и всюду стяжала славу. А выросло все из шоу утёсовского оркестра «Музыкальный магазин», которое посмотрел Александров — и понял: это то, это да.
И вот только представьте себе: Гражданская война с её ужасами была совсем недавно, десять лет назад. Идут процессы над спецами, высылают «бывших», они все не столько распродают, сколько раздают. До большого террора четыре года. Коллективизация зверская. И они снимают музыкальную комедию, в которой Утёсов поёт: «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда! Ведь мы такими родились на свете, что не сдаёмся нигде и никогда!» Действительно, тридцатые годы со всеми их ужасами были обёрнуты в сплошной праздник, и не зря последней премьерой Мейерхольда был «Маскарад». Как-то ужас входил естественной составляющей в эту бесконечную музыкальную комедию, и отсюда несколько истерическое веселье всех этих фильмов и утёсовских театрализованных концертов — это не имитируется, не воспроизводится. Ремейк «Весёлых ребят», снятый в 2014 году, тоже, кстати, совсем не мирном, вообще не получился — ни тебе нерва, ни юмора. Отчасти потому, что фильм Александрова утверждал демократические ценности — это всегда хорошо, а теперь ими и не пахнет,— а отчасти потому, что от Утёсова исходит магнетизм и ужас, а это не имитируется. Он играет бесшабашное веселье, демонстрирует навыки гимнаста, скрипача, дирижёра — и всё время очень боится, и временами в кадр попадает его затравленный взгляд одесского босяка. Он знает, что его не любят. И все за «Весёлых ребят» получили ордена, звания и автомобили, а главный артист и вдохновитель Утёсов — фотоаппарат ФЭД.
Но хотя Сталин лично его недолюбливал, он его берег и предоставлял режим наибольшего благоприятствования. Книги о нём выходили (предисловие репрессированного Бабеля вырвали из готового сборника материалов о нём), фильмы-концерты он снимал, программы выпускал, всё более идейные и почти без американских переделанных песен, всё больше матросский фольклор, как в программе «Два корабля». Званий ему не давали, орденов, бывших вроде как индульгенцией, не получал он до сорок пятого — года своего пятидесятилетия. Но всенародная слава страховала его лучше наград, хотя Козина, например, она не спасла. Но Козин разве был такой народный артист? Козин был для эстетов, ценителей романса, а Утёсов увязывал в одно блатняк, патриотизм и неунывающее веселье. Он был подлинный отец-основатель русского шансона.
Война и после
И всё это кончилось.
Лебедев-Кумач, орденоносец и автор значительной части его репертуара, в октябре 1941 года, во время массовой эвакуации, просто сошёл с ума. В доносах зафиксированы его истерические выкрики на вокзале: до чего Сталин довёл страну! Его не тронули — как-никак автор «Священной войны». Он как-то пришёл в себя, был военкором на флоте и даже дослужился до каперанга, но песен писать уже не мог. Так, ерунду какую-то вроде «Закаляйся».
Страшный и праздничный, грозовой и озоновый, бесчеловечный и приблатнённый Советский Союз сталинского зенита в 1941 году кончился. Как выяснилось, он не умеет воевать. Лётчики-рекордсмены не умеют нормально летать, воспеватели и славословы не умеют звать на борьбу, силовики лучше всего умеют бороться с собственным населением — что они и продолжали делать все четыре года войны, не останавливая машину репрессий даже в блокадном Ленинграде. Ольга Берггольц замечательно об этом написала — в дневниках, разумеется.
Выяснилось вдруг, что вся эта репрессивно-праздничная машина годится для непрерывной истерики, а для будничной и смертельно опасной работы — никак. Другие люди были востребованы и другие качества.
Вот отчего четыре военных года многим запомнились как глоток свободы. А многие враги народа оказались реабилитированы и возвращены в строй. Из сталинских любимцев в военное время оказался востребован один Симонов — и то не с репортажами, а с любовной лирикой. Лучшим военным журналистом оказался вечно сомнительный Эренбург, лучшими корреспондентами — Платонов и Гроссман. А нелюбимый Сталиным Утёсов выезжал со своим коллективом на фронт и дал несколько сот концертов: одесская храбрость, граничащая с наглостью, никогда ему не изменяла.
Но вот Одесса никогда уже не стала прежней. Еврейского населения было в ней 30 процентов, а выжило — едва-едва 5. На фронте для еврея было безопаснее, чем в тылу. Румыны, контролирующие Одессу вместе с немцами, в конце октября 1941 года расстреляли и сожгли заживо 30.000 человек.
Вот я это пишу в Одессе, той самой, которая так и не стала прежней. После 2 мая 2014 года, кстати, тоже. Одесса — город, мало приспособленный для скорби. Веселье — хрупкая вещь, особенно драгоценная в невесёлой Российской империи. После войны в России что-то надломилось навеки, и победа этой раны не исцелила. Последствия её нас догоняют именно сейчас. Кстати, и кошмар позднего сталинизма — борьба с космополитами, тотальная цензура, закатывание в асфальт всего живого — тоже ведь последствия войны. Понятно, что никакой Утёсов в этих условиях возможен не был, а ближайшего его друга Михоэлса вместе с его театром попросту уничтожили. До войны был маскарад, хоть и адский, а потом — сплошные арестантские роты, казарменные марши. Вся сатира обратилась на недавних западных союзников. Люди думали, что после войны выйдет им послабление, а им об этих надеждах и помнить запретили.
И вот что особенно интересно: главным народным шансонье стал в это время Бернес. Логично было бы, чтобы в рамках борьбы с космополитизмом это место заняли Нечаев или Бунчиков, тоже знаменитые, нет слов. Кстати, «Прасковью», знаменитую потом в исполнении Бернеса, впервые спел по радио Нечаев, после чего песню запретили на 15 лет. И не сказать чтобы военные песни Утёсова не становились хитами: «Мишка-одессит», «Барон фон дер Пшик» — всё это распевалось, а «Брестская улица» даже попала в «Место встречи» на правах символа Победы. Но вот Шульженко с военными песнями воспринималась органично, а Утёсов — нет. Он был весь — праздник, весь — мюзик-холл, весь — одесский кафешантан. И пока в советской власти оставалось хоть что-то от праздника — он ей годился. А в лице харьковчанки Шульженко и москвича Бернеса, ничуть не более русского, чем Утёсов, вышла на эстраду будничная, пыльная, окопная Россия.
Есть запись — старый Утёсов под рояль автора, Никиты Богословского, поёт «Тёмную ночь», и хорошо поёт: не такой у него был голос, чтобы портиться с годами. «Душой пою, а не голосом»,— говаривал он. Но все его интонации — не те. Он артист, а для этой песни артист не нужен. В фильме «Два бойца» знаменитые «Шаланды», ставшие визитной карточкой Бернеса, поются в разбомблённом доме. И только там они по-настоящему звучат. В Бернесе вообще не было ничего от эстрадника. Немыслимо представить его во главе теа-джаза. И не пение у него, а речитатив. И о чём бы он ни пел — о дальних дорогах, о сибирских стройках, даже о тополях, высаженных в московском дворике,— всегда было чувство, что поёт либо старый солдат на привале, либо старый зэк, который едет на родину. Таков был русский шансон 50–60-х годов. Утёсов продолжал выступать, спел даже гимн родной Одессы — «Есть город, который я вижу во сне», и принимала его Одесса по-прежнему прекрасно, но это был не его город и не его публика. Самое великое искусство не переживёт катастрофы, в которой три четверти его зрителей уничтожены, разбежались или переродились. И в советской власти 50-х годов уже не было бандитского шика: она старела вместе с Утёсовым, теряла память и зубы. Утёсов выступал до 1966 года. Дальше — доживал. А в 1969 году умер Бернес, и голосом советской власти стал Кобзон.
Это и был конец, которого тогда, увы, никто не заметил. Двадцать лет эта пластинка ещё крутилась, но, по совести сказать, её уже мало кто слушал.
Занавес
В 1962 году Утёсов похоронил жену. По-настоящему на плаву его удерживала только она: широко известна легенда о том, как в середине 20-х он от неё уходил то ли к опереточной приме, то ли к исполнительнице цыганских романсов, это и неважно. Прима жила в холодной квартире, Утёсов простужался — и жена ему прислала телегу дров. Он вернулся немедленно. Одесситы умеют ценить жест (и любят тепло).
Эдит Утёсова была изгнана из отцовского оркестра распоряжением Минкульта, дабы не разводить семейственность. Отец посоветовал ей собрать свой маленький коллектив, и до конца 60-х она выступала, а потом ушла со сцены. В 1982 году она умерла от белокровия, Утёсов пережил её на два месяца.
Печальны были его последние годы: внуков не дождался (Эдит была замужем за режиссёром-документалистом, детей у них не было); друзей юности почти не осталось: такой был век. Его оркестр без него просуществовал не более года. Утёсов сочинял стихи, которых не печатал, давал интервью, которые потом переписывал в строго советском духе, писал мемуары, в которых обаяние его личности почти неощутимо, и снимался в ностальгических телепрограммах. Любил и всячески поддерживал Высоцкого, в котором, разумеется, узнавал что-то своё: когда Высоцкий снимался в «Интервенции» (1968), он досконально изучил одесский шансон и сделал несколько блестящих стилизаций в его духе. Пугачёву Утёсов тоже любил: настоящая бандитка, вполне в его вкусе.
Некое подобие моды на него возникло в 90-е, когда бандитская эстетика опять ворвалась на сцену. Тогда переиздали его ранние записи, а вскоре сняли фильм про Мишку Япончика, где атмосфера той Одессы посильно воскрешена. Песню про город, который все мы видим во сне, Урсуляк включил в «Ликвидацию». Утёсова на сцене там еле видно, но фонограмма звучит.
Город Одесса теперь находится за границей и разрывается между неизбежной украинизацией и своей чисто русской литературной славой.
Всему конец, как написал одессит Катаев в повести 1967 года «Трава забвенья».
Но ведь и в 1905 году был всему конец, нет? И в 1921-м? И в 1937-м? И в 1941-м уж точно. А как-то вот оно всё выскакивает как чёрт из табакерки — циническое, бандитское, морское отношение к жизни. Как-то протаскивает Одесса — как всегда контрабандой, ибо это её профиль — свою проклятую, вопреки всему, способность жить, своё беззаконное и неуместное счастье, свой запретный и бессмертный талант.
И зазвучит дозволенным уютом
Утёсовский мембранный хрипоток,
И девушки неведомым маршрутом
На Дальний устремятся на Восток,
В центральном парке музыка взыграет,
И вырастет на грядке резеда…
Над кем, над чем там чёрный ворон грает?
Неважно, не над нами, не беда.
Это стихи Нонны Слепаковой, которая на Утёсове выросла и не могла его слушать: слишком многое он напоминал. А лучшее, что написано об Утёсове — финал купринского «Гамбринуса», сочинённого, когда Утёсову было 12. Там знаменитому скрипачу Сашке сломали в участке руку, так что играть в родном кабаке он больше не мог. Моряки и грузчики потупились, понимая, что Гамбринусу конец, но Сашка махнул аккомпаниатору — Эйн, цвейн, дрей!— вынул из кармана свистульку и засвистал свой главный хит «Чабан».
Вот эту свистульку слышим мы все, когда поёт Утёсов.
Эйн, цвейн, дрей, товарищи и граждане, ангажируйте ваших дам!