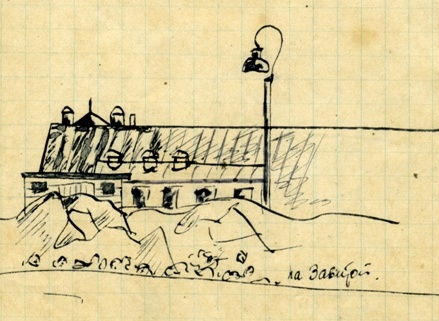
Дневник охранника-ВОХРовца, который велся непосредственно в ГУЛАГе, и в котором в течение нескольких месяцев 1935-36 года, автор описывал свою жизнь, – вероятно, единственный сохранившийся источник подобного рода.

Рисунок из дневника Ивана Чистякова
Представления о гулаговской системе и лагерном мире основаны, большей частью, на воспоминаниях жертв репрессий. Здесь же свидетельства о лагерной жизни от лица человека, находящегося (по крайней мере, какое-то время) по эту сторону колючей проволоки
Воспоминаний не жертв, а виновников сталинских преступлений, людей, находившихся по эту сторону колючей проволоки: высших чинов НКВД, организовывавших репрессии, следователей, начальников лагерей, лагерного персонала — фактически не существует. А ведь через эту систему прошли сотни тысяч людей (в 1939 г., например, личный состав органов НКВД составлял 365 839 человек[fn]Данные приводятся в книге: Г.М. Иванова. Гулаг в системе тоталитарного государства. Москва, 1997, стр.161[/fn]). Но потребности писать мемуары у них обычно не возникало.
Чистяков Иван Петрович: биографические сведения
Дневник Ивана Чистякова, командира взвода вооруженной охраны («ВОХР») на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — уникальное историческое свидетельство. Дневник находится в архиве общества Мемориал в Москве, куда он был передан людьми, случайно обнаружившими его в бумагах своей умершей дальней родственницы.
Дневник состоит из двух небольших тетрадок. В одной — описание трех дней, проведенных Чистяковым на охоте, в августе 1934 года, до его призыва во внутренние войска и отъезда на БАМ. Зарисовки в духе «Записок охотника» Ивана Тургенева, классические охотничьи рассказы, иллюстрированные рисунками автора — все это звучит как ностальгия по старой дореволюционной России, и резко контрастирует с другой тетрадью, записи в которой датируются 1935-36 годом. Все это время их автор находился в ГУЛАГе.
Мы знаем о нем очень мало. Вместе с тетрадками сохранился лишь мутный любительский снимок, на оборотной стороне которого есть надпись:
«Чистяков Иван Петрович, репрессирован в 1937 – 1938 гг. Погиб в 1941 году на фронте в Тульской области».
Все остальные сведения об этом человеке можно почерпнуть только из его дневника.
Сколько лет было в тот момент его автору? Вероятно, уже больше 30, поскольку в дневнике есть упоминание о том, что половина жизни им уже прожита, и что он был на фронте. Значит, если он даже участвовал в гражданской войне в самом ее конце, в 1920-21 гг., то ему тогда должно было быть не меньше 18-19 лет.



До призыва в армию (к огромному несчастью для Ивана Чистякова он попадает на службу во внутренние войска) он жил в Москве, неподалеку от Садово-Кудринской площади. Ездил на трамвае на работу, в свободное время ходил в театр, занимался спортом, любил рисовать, словом, жил жизнью обычного сравнительно интеллигентного советского горожанина начала 30-х годов.
У Ивана Петровича Чистякова, человека с таким характерным для России именем отчеством и фамилией, не слишком удачное для того времени непролетарское происхождение. У него, вероятно, среднее техническое образование, и он был исключен из коммунистической партии во время одной из проходивших в конце 20-х, начале 30-х годов широких чисток, когда партийного билета лишались, прежде всего, так называемые социально-чуждые элементы. (Об этом Чистяков также упоминает в дневнике, поскольку считает, что на БАМ его отправили, как человека уже в глазах власти провинившегося).
Кем он работал до призыва в армию, понять из текста дневника трудно, возможно, преподавателем какого-нибудь техникума, а, может быть, инженером. У него, по-видимому, нет семьи, хотя он изредка упоминает о том, что получил письмо или посылку, но нигде нет ни слова о любимой женщине или детях.
Чистякова мобилизуют во внутренние войска в тот момент, когда по-настоящему разворачиваются огромные сталинские проекты под руководством ОГПУ -НКВД, когда создается ГУЛАГ, испытывающий острую нехватку в кадрах. Осенью 1935-го года он попадает в одно из самых далеких и страшных мест — на БАМ, то есть в Бамлаг (Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь).
Бамлаг
В 1932-ом году Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали. БАМ являлся стройкой оборонного значения, и первоначально его сооружение было поручено Наркомату путей сообщения. На строительство отводилось всего 3,5 года. Срочность работ была связана с военно-стратегической ситуацией на Дальнем Востоке, сложившейся после захвата Японией в 1930-31-ом году Манчжурии. Но, несмотря на развернувшуюся в СССР агитационную кампанию, мобилизовать на Дальний Восток на тяжелую работу людей было невозможно. Скоро стало ясно, что осуществить эту сталинскую задачу в такие краткие сроки можно только, используя бесплатный принудительный труд.
Стройка была передана в руки ОГПУ. В Бамлаг потекли потоки заключенных и спецпереселенцев (в основном сосланных раскулаченных). К этому времени завершалось сооружение Беломорско-Балтийского канала – первой масштабной стройки ГУЛАГа, и тысячи заключенных были оттуда отправлены на БАМ.
В середине 1935 года, когда в Бамлаге оказался автор дневника, количество работающих на строительстве заключенных составляло уже около 170 тысяч человек, а к моменту расформирования лагеря — к маю 1938 , свыше 200 тысяч (из более 1,8 миллиона всех узников ГУЛАГа на тот момент).
Начальники ГУЛАГа
Бамлаг в 1935-ом охватывал огромную территорию — от Читы до Уссурийска, превышавшую по длине 2000 км. Управлялся он из города Свободный Дальневосточного края.
Первым начальником строительства на Бамлаге был Сергей Мрачковский старый большевик, в прошлом участник троцкистской оппозиции. В сентябре 1933 года, когда строительство дороги приняло широкие масштабы, все руководство Бамлага во главе с Мрачковским было арестовано в связи с «делом контрреволюционной троцкистской группы».–
Новым начальником Бамлага стал Наталий Френкель, один из наиболее одиозных строителей гулаговской системы. До своего назначения в Бамлаг Френкель сделал фантастическую карьеру. В начале 20-х годов он был по обвинению в мошенничестве и контрабанде осужден и отправлен в Соловецкие лагеря. За несколько лет пребывания на Соловках заключенный Френкель сумел превратиться в начальника производственного отдела лагеря, а, выйдя на свободу, был взят на службу в ОГПУ. В 1931-1933 годах Френкель становится одним из руководителей первого крупнейшего объекта ОГПУ, построенного руками заключенных — Беломорско-Балтийского канала.
Художественный образ этого нового лагерного мира и его организатора рисует писатель Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба»:
«Френкель в начале нэпа построил в Одессе моторный завод. В середине двадцатых годов его арестовали и выслали в Соловки. Сидя в Соловецком лагере, Френкель подал Сталину гениальный проект…. В проекте подробно, с экономическими и техническими обоснованиями, говорилось об использовании огромных масс заключенных для создания дорог, плотин, гидростанций, искусственных водоемов. Хозяин оценил его мысль. В простоту труда, освященного простотой арестантских рот и старой каторги, труда лопаты, кирки, топора и пилы, вторгся двадцатый век. Лагерный мир стал впитывать в себя прогресс, он втягивал в свою орбиту электровозы, экскаваторы, бульдозеры, электропилы, турбины, врубовые машины, огромный автомобильный, тракторный парк. Лагерный мир осваивал транспортную и связную авиацию, радиосвязь и селекторную связь, станки-автоматы, современнейшие системы обогащения руд; лагерный мир проектировал, планировал, чертил, рождал рудники, заводы, новые моря, гигантские электростанции. Он развивался стремительно, и старая каторга казалась рядом смешной и трогательной, как детские кубики» [fn]Василий Гроссман. Жизнь и Судьба, Москва, 1988 г. стр.790-791[/fn].
Одним из таких новых амбициозных гулаговских проектов и было строительство БАМа (сложнейшей многокилометровой железнодорожной структуры) и осуществлялся он, как и все остальные лагерные стройки, каторжным ручным трудом (лопатой, тачкой, кайлом и пилой) сотен тысяч заключенных.
Гроссман правильно оценил важность роли Френкеля — тот оставался начальником строительства в Бамлаге весь последующий период и оказался одним из немногих деятелей ГУЛАГа, кто не был арестован, смог продержаться на такой должности и даже продвинуться наверх[fn]В 1940 году Френкель уже занимал пост начальника управления железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД СССР, т.е. распоряжался всеми железнодорожными лагерями в стране[/fn].
Свое руководство Бамлагом Френкель начал с радикального переустройства лагерных подразделений. Как мастер организации и знаток лагерной жизни, он создал фаланги – специализированные бригады по 250-300 человек каждая, где все заключенные были связаны круговой порукой выполнения плана и соревнованием за пайки. (Эти бригады-фаланги неоднократно упоминаются в дневнике Чистякова).Суть этой новой системы точно описал человек, находившийся в начале тридцатых годов по другую сторону колючей проволоки, знаменитый автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов:
«Ведь только в начале тридцатых годов был решен этот главный вопрос. Чем бить – палкой или пайкой, шкалой питания в зависимости от выработки. Выяснилось, что с помощью шкалы питания, обещанного сокращения срока можно заставить и «вредителей», и бытовиков не только хорошо, энергично, безвозмездно работать даже без конвоя, но и доносить, продавать всех своих соседей ради окурка, одобрительного взгляда концлагерного начальства» [fn]Варлам Шаламов. Вишера. Антироман, Москва, 1989 г. стр.43[/fn]
Система, предложенная такими новаторами ГУЛАГа, как Френкель, заключалась в применении
«…бесплатного принудительного труда, где желудочная шкала питания сочеталась с надеждой на досрочное освобождение по зачетам. Все это разработано чрезвычайно детально, лестница поощрений и лестница наказаний в лагере очень велика – от карцерных ста граммов хлеба через день до двух килограммов хлеба при выполнении стахановской нормы (так она и называлась официально). Так проведен был Беломорканал, Москанал – стройки первой пятилетки. Экономический эффект был велик.
Велик был и эффект растления душ людей – и начальства, и заключенных, и прочих граждан. Крепкая душа укрепляется в тюрьме. Лагерь же с досрочным освобождением разлагает всякую, любую душу – начальника и подчиненного, вольнонаемного и заключенного, кадрового командира и нанятого слесаря» [fn]Варлам Шаламов, там же стр. 45[/fn], — пишет Шаламов.
Каждый месяц Френкель получал эшелоны с новыми арестантами, и его лагерь рос как на дрожжах. Второе отделение Бамлага (именно туда попадает Чистяков) представляло собой огромный рабочий муравейник. В него входило и строительство вторых железнодорожных путей, паровозоремонтных депо, вокзалов и других гражданских сооружений. Там были механические мастерские и подсобные сельские хозяйства, своя агитбригада и лагерная печать, производственные фаланги с сотнями заключенных — «путеармейцев», изоляторы для провинившихся и фаланги для штрафников и отказчиков.
Советская стройка
Заключенные Бамлага строили железную дорогу в невероятно трудных географических и климатических условиях. Они прокладывали рельсы через неосвоенные территории Дальнего Востока — горы, реки, болота, преодолевая скалы, вечную мерзлоту, высокую влажность грунта. В таких условиях строительные работы можно было вести не более 100 дней в году, но заключенные работали круглый год и в любую погоду по 16-18 часов в сутки. У многих появилась «куриная слепота»; свирепствовала малярия, простуда, ревматизм, желудочные заболевания.
Благодаря каторжному труду десятков тысяч людей, к концу 1937 года главные участки работ Бамлага на вторых путях трассы (Карымская — Хабаровск) были закончены. Теперь заключенным предстояло приступить к строительству собственно БАМа — дороги от Тайшета через северный Байкал до Советской Гавани — протяженностью 4 643 км. После начала Отечественной войны в 1941–ом году огромное строительство было остановлено; у ГУЛАГа уже не хватало ни людей, ни мощностей.
Фактически прокладка нового участка Байкало-Амурской железной дороги была продолжена в 70-е годы, и тогда на стройку, объявленную комсомольской ударной, отправили тысячи молодежных бригад. Строительство шло 12 лет и закончилось незадолго до начала перестройки. Сегодня этот участок железной дороги переименован, и названия БАМ больше не существует.
Винтики системы
Наши представления о лагерном мире складываются, прежде всего, под влиянием тех воспоминаний, которые оставили бывшие заключенные, жертвы репрессий. О том, как функционировала гулаговская система, о ее механизме и структурах, можно теперь узнать благодаря архивам, где сохранились тысячи документов. Сегодня многое известно и об организаторах и начальниках ГУЛАГа.
Но образ «человека с ружьем» по эту сторону колючей проволоки нам знаком очень плохо, и мы едва ли представляем себе так называемых «винтиков» огромной репрессивной машины. Бывшие узники, как можно судить по многочисленным воспоминаниям, чаще запоминали своих следователей, тех, кто допрашивал их в тюрьме после ареста, составлял протоколы и обвинительные заключения. К тому же от следователя зависела дальнейшая судьба и лагерный срок арестованных, и они часто склонны были видеть в нем, в конкретном человеке, а не в государственной репрессивной машине, персонализированное насилие, проявление по отношению к ним несправедливости и жестокости.
Но тех, кто охранял их в лагерях, люди, попадавшие в ГУЛАГ на многие годы, как правило, не запоминали. Охранники часто сменялись, были все словно на одно лицо, и в памяти заключенного оставался лишь тот, кто неожиданно проявлял какие-то человеческие чувства или наоборот особую жестокость.
Отношение заключенных к тем, кто их охранял в лагерях, описывает Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:
«В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны… А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало… может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерник быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь?… Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, различение злого и доброго — будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твёрдости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому даётся и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается — и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди всё равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти! А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно полезной. И даже почётной. А кому-то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие» [fn]Александр Солженицын . Арихипелаг ГУЛАГ, т.2 , Москва 1988, стр.494[/fn]
Эти слова Солженицына о тех, кому не удалось «отбиться», кто чувствует, что так дальше «жить нельзя», и хочет только «уйти, уйти, уйти», вполне можно отнести к Ивану Чистякову. И дневник, который он оставил, дает нам уникальную возможность понять, что думал и чувствовал человек, оказавшийся в его роли.
«Вызвали и поезжай…»
Не по своей воле Чистяков попал на край света, чтобы командовать взводом стрелков ВОХР, которые должны были конвоировать заключенных на работу, охранять лагеря по периметру, сопровождать эшелоны и ловить беглецов.
С этого момента каждый день, проведенный им на Баме, проникнут одним желанием: выбраться из кошмара, в который он попал. И он не устает его описывать: очень тяжелый климат, отвратительное жилье, где ночью от холода волосы прилипают ко лбу, отсутствие бани, нормальной еды, постоянно мучающая его простуда, боли в желудке:
«Я не имею желания служить в армии, да тем более в БАМе. Но что делать? Было бы, хотя тепло в помещении, где можно отдохнуть. И этого нет. Один бок греет буржуйка, а другой мерзнет. Развивается какая-то беспечность, ладно, как-нибудь. А каждый прожитый день кусок жизни, который можно бы прожить, а не прозябать».
Чистяков командует взводом охраны, он самое низшее в этой системе командное звено, и тяжесть своего положения он ощущает с двух сторон: с одной стороны, грубые, безграмотные, пьяные стрелки, многие из которых тоже заключенные (осужденные на небольшие сроки) или бывшие заключенные.
«Здесь не с кем молвить слово, с з/к нельзя, со стрелками тоже, сживешься и уже не командир. Мы простая кобылка, по окончании строительства незаметно сойдем с арены. Вся или большая тяжесть строительства лежит на нас, стрелках команд и комвзводах ..».
С другой стороны, на него давит его чекистское начальство, переведенное на БАМ с Соловков и прошедшее там школу власти «Соловецкой, а не Советской», (поговорка, которая родилась в Соловецком лагере и на долгие годы его пережила); школу, методы которой теперь распространились на всю гулаговскую систему. О том, какова эта власть, какими жестокими методами действует она по отношению к заключенным (и с этим должен был столкнуться на БАМе Чистяков), пишет Варлам Шаламов, анализируя собственный лагерный опыт начала 30-х годов:
«Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы – дело было зимой, – замороженные, стояли около вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега. Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили – на том же самом Севере, который я объехал весь, – ставили «на комарей», на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки» [fn]В. Шаламов, там же, стр.43[/fn]
На фоне таких свидетельств становится очевидно, что та роль, которую Чистяков должен играть здесь в Бамлаге не может не вызывать у глубокого отвращения, и в своем дневнике он пишет об этом совершенно откровенно.
«Нам ночь приносит беспокойство, побеги убийства. Осенняя ночь выручай, будь узнику ты хоть защитой родная. Так и сегодня убежали двое. Допрос, погоня, докладные, штаб, 3-я часть, и вместо отдыха ночь приносит волнение и кошмар».
Он — не чекист, он здесь человек чужой, подневольный, поэтому все-таки время от времени в нем просыпается рефлексия, и он вспоминает о том, «скольким… увеличил срок. Как ни стараешься быть спокойным, но иногда прорвет. Кому ни будь и дашь арест».
Его поражают чудовищные условия, в которых содержатся заключенные, занятые тяжким трудом на строительстве железной дороги.
«Пошли по баракам…. Голые нары, везде щели, снег на спящих, дров нет…
Скопище шевелящихся людей. Разумных, мыслящих, специалистов. Лохмотья грязь от грунта…. Ночь не спят, день на работе зачастую в худых ботинках, в лаптях без рукавиц на холодной пище в карьере. Вечером в бараке снова холод, снова ночью бред. Поневоле вспомнишь дом и тепло. Поневоле все и всё будут виноваты… Лагерная администрация не заботится о з/к Результат отказы… и з/к правы — ведь они просят минимум, минимум который мы должны дать, обязаны. На это отпущены средства. Но наше авось, разгильдяйство, наше нежелание, или черт знает что еще, работать…».
В записях, сделанных им вскоре после приезда на БАМ, еще сильны ноты сочувствия к тем, кого он вынужден охранять. Он понимает, почему люди отказываются выходить на работу и при любой возможности стараются бежать.
«Прислали малолеток: вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 к. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут косность, бюрократизм или вредительство. Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут».
Методы, которыми ведется эта стройка, сочетание хаоса с равнодушием и безжалостностью к людям, которые лишены самого необходимого, все это вызывает у Чистякова неприятие. Уникальность дневника в том, автор описывает происходящее день за днем – изнутри самой системы принудительного труда.
На каждом шагу он сталкивается с бессмысленностью и неэффективностью таким образом организованной работы. Например, начальство не обеспечивает заключенных дровами, а в условиях 50 градусного мороза людям нужно хоть как-то обогреваться, значит, — и это признает Чистяков, — они вынуждены воровать и сжигать драгоценные шпалы, предназначенные для строительства.
«Жгут шпалы, возят возами. Здесь немного, там немного, а в общем уничтожают тысячи, уничтожают столько что страшно подумать. Начальство или не хочет или не может додуматься, что дрова нужны и что шпалы обойдутся и обходятся дороже. Наверно всем, как и мне, служить в БАМе не хочется. Поэтому не обращают внимания ни на что. Крупные чины члены партии, старые чекисты делают и работают на авось, махнув на все рукой… Вся дисциплина держится на Ревтрибунале[fn]Чистяков часто употребляет старый термин «ревтрибунал», — то есть революционный трибунал, созданный в 1917 году и просуществовавший до 1922 года , вместо военного трибунала, суду которого он подлежал, как военнослужащий[/fn], на страхе».
Свое недовольство и раздражение против чекистского начальства, которое пребывает в постоянной истерике, «выгоняет из кабинета, рычит», потому что сверху от него требуют любой ценой выполнения фантастического по срокам плана сдачи строительства, Чистяков высказывает едва ли не на каждой странице дневника. Так же как неверие в их «подгоняльные» методы работы. Но высказывать критику вслух просто опасно:
«Попробуй скажи истинное положение вещей, всыпят, закашляешься…»
Судя по тому, что Чистяков описывает в дневнике, он ведет себя, в сущности, также, как заключенные, то есть, старается всячески уклониться от выполнения бессмысленных приказов. Он осознает то, чего не понимает лагерное начальство, которое
«считает, что подчиненный, которому отдано распоряжение, готов и обязан выполнить это распоряжение срочно и со всей душой. На самом деле рабы не все. Целый ряд работяг из зэка любое распоряжение начальника встречает с тем, чтобы напрячь все духовные силы и его не исполнять… Это естественное действие раба. Но лагерное начальство, московское и ниже, почему-то думает, что каждый их приказ будет выполняться. Каждое распоряжение высшего начальства — это оскорбление достоинства заключенного вне зависимости, полезно или вредно само распоряжение. Мозг заключенного притуплен всевозможными приказами, а воля оскорблена» [fn]Варлам Шаламов, там же стр. 25[/fn].
И все-таки трагизм ситуации, в которую попадает Чистяков, заключается в том, что хочет он этого или нет, но порой он с ужасом осознает, что «врастает в БАМ». А это значит, что постепенно слабеет, почти исчезает сочувствие, которое он вначале испытывал к заключенным. Драки и убийства среди уголовников, постоянные побеги, за которые ему приходится отвечать, все это приводит к тому, что, человеческие чувства в нем притупляются. Тем более, что здесь, в Бамлаге, среди заключенных мало людей интеллигентных, их час еще не настал, 37-ой год массового террора еще впереди [fn]Конечно, такие люди в Бамлаге были, например, до 1934 –года там находился , осужденный на 10 лет знаменитый ученый и философ Павел Флоренский, но в дневнике Чистякова никто из заключенных, осужденных по политической статье, не упоминается[/fn]. Основной контингент — это уголовники, это сидящие по бытовым статьям, раскулаченные, пойманные беспризорники – малолетки. Эти люди особенно легко решаются на побег, да и обстановка этому благоприятствует: постоянное перемещение бригад-фаланг по мере продвижения строительства железнодорожных путей, отсутствие стационарной лагерной инфрастуктуры. Чистяков пишет о том, что ему ежедневно приходится преодолевать пешком или на лошади многие километры. В таких условиях предупреждать побеги становится почти невозможным.
Женщины – заключенные (это в основном представительницы уголовного мира или проститутки) вызывают у него чувства хоть и смешанные еще порой с жалостью, но, прежде всего, ужаса и брезгливости:
«На фаланге драка, дерутся бабы. Бьют бывшую… и убивают. Мы бессильны помочь, нам на фаланге применять оружие запрещено. Мы не имеем права ходить с оружием. Все они 35[fn]Статья 35 УК предусматривала наказание до 5 лет за нарушение паспортного режима и для тех кого числили под категорией СВЭ (социально вредный элемент). Бродяги, проститутки и прочий мелкий уголовный элемент[/fn], но все же жалко человека. Эх, дорвемся, попадут, где мы правы, раскаются. Накипевшее прорвется. Черт знает что, а не третья часть[fn]3 отдел – оперативно-чекистский – отвечал за всю агентурно-оперативную работу среди заключенных и следил за лагерным персоналом[/fn], нас жгут, дают срока, правильно или не правильно применено оружие, а з/к за убийство ничего. Ну уж ладно пускай з/к сами себя бьют нам не пачкаться в ихней крови».
Шум трамвая
Доносятся ли на Дальний Восток в Бамлаг отголоски той жизни, которой живет страна в 1935-36 году? Чистяков несколько раз упоминает в дневнике имена советских партийных деятелей (Ворошилова, Кагановича), актуальные политические события. Но, главным образом, в связи с тем, что он обязан проводить среди своих стрелков политинформацию по материалам газет. Он читает им речь Михаила Калинина о проекте новой советской конституции, рассказывает о строительстве московского метро, о международном положении (упоминая Гитлера). Однако, сам он по-видимому над смыслом этих событий не слишком задумывается, хотя бы над тем, как фальшиво в условиях Бамлага, которые он сам описывает, звучит само это слово «конституция». Когда Чистяков в издевательском тоне пишет о проходящем в столовой митинге в поддержку начинающегося процесса над троцкистско-зиновьевским блоком, то насмешку у него вызывает не сам показательный процесс над политической оппозицией, а безграмотные и глупые выступления чекистов, не умеющих воодушевить, направить мысли слушателя.
Но у автора дневника нет и фанатической веры в коммунизм, нет особого энтузиазма по поводу «великих строек». Он знает, что он, и такие, как он, –всего лишь фундамент этого сталинского « котлована»:
«Я и вся ВОХра — участники великой стройки. Отдаем свою жизнь на построение социалистического общества, а чем все это отметится, да ничем. Могут отметить Ревтрибом..».
Чистяков — довольно типичный маленький человек ранней советской эпохи, он всего лишь хочет быть лояльным гражданином. И мечты у него скромные, ему просто хочется жить нормальными человеческими радостями:
«Я хочу заниматься спортом, радио, хочу работать по специальности, учится, следить и проверять на практике технологию металлов, вращаться в культурном обществе, хочу театра и кино, лекций и музеев, выставок, хочу рисовать. Ездить на мотоцикле, а может быть продать мотоцикл и купить аэроплан резиновый, летать…»
Но ничего этого у него больше никогда не будет. Он чувствует, что даже той скромной жизни москвича 30-х годов, которую он прежде вел, пришел конец. Москва первой половины 30-х — на самом деле серый город, с коммунальными квартирами, переполненными трамваями, с очередями и продовольственными карточками и плохо одетыми людьми, — кажется Чистякову теперь самым прекрасным местом на земле.
«Представилась Каретно-Садовая, шум трамвая, улицы, пешеходы, оттепель и дворники скребками чистят тротуар. Представляется до боли в висках. В жизни осталось пробыть меньшую половину. Но эта половина скомкана БАМом. И никому до моей жизни нет дела. Чем обрести право распоряжаться своим временем и жизнью….Даже паршивый забор Московской окраины кажется дорогим и близким».
С точки зрения сегодняшнего дня, это чувство тоски и обреченности кажется странным — ведь призвали Чистякова, вероятно, всего на год, вот-вот все закончится, и он вернется домой. Но он-то хорошо понимает, где он живет, понимает, что бессилен перед властью, которая может сделать с ним все что угодно. А самое главное, он чувствует, как тонка грань, которая отделяет его от тех, кого он вынужден охранять. Один из наиболее часто повторяющихся мотивов в дневнике — ожидание собственного ареста. Трибунал, которым грозит ему начальство, может за не предотвращенные побеги, да и за все остальное, что легко подводится под статью «халатность», и в самом деле осудить его и оставить в ГУЛАГе на многие годы. В атмосфере доносов, взаимной слежки, царящей среди чекистов в Бамлаге, Чистякова ставит под удар практически все. Он «классово чуждый», он вычищен из партии, критикует начальство, пренебрежительно относится к приказам и т.д.. И то, что он отгораживается от остальных, не пьянствует вместе со всеми, что-то постоянно пишет, рисует, — вызывает настороженное и подозрительное отношение к нему чекистов.
И Чистяков постепенно смиряется с мыслью о будущем аресте, он даже уговаривает себя, что, может быть, срок дадут ему небольшой, и тогда, отсидев свое, он хоть таким образом сможет вернуться к прежней жизни
«Придется все же получить срок и уехать. Ведь не один же я буду с судимостью в СССР. Живут же люди и будут жить. Так перевоспитал меня БАМ. Так исправил мои мысли. Сделал преступника. Я сейчас уже преступник теоретически. Потихоньку сижу себе среди путеармейцев. Готовлю себя и свыкаюсь с будущим… А может быть шлепнусь?»
« Схожу с ума…»
Возможно, тоска и отчаяние, которые в течение этого года на Баме все больше ощущает Иван Чистяков, многократно усиливаются тем, что любая другая жизнь представляется ему теперь миражем, и весь мир уже кажется сплошным Бамлагом.
Постепенно чувство одиночества и обреченности, страха, так сильно овладевает автором дневника, что возможная смерть становится уже почти реальностью. У него все чаще возникают мысли о самоубийстве. Самоубийство, после страшных катаклизмов революции и гражданской войны, ставшее чуть ли не модой тех лет, этот выбор порою кажется многим современникам Чистякова едва ли не самым простым. И Чистяков, сообщая о чьем-то самоубийстве в лагере, пишет об этом, как о возможном выходе и для себя.
«Застрелился стрелок з/к[fn]имеется в виду стрелок — заключенный или бывший заключенный. В приказе по этому поводу сказано, что он застрелился от страха перед новым лагерным сроком[/fn], в приказе — боязнь получить новый срок, а истинное положение наверное другое. Приказ нужен для моральной обработки. Что напишут, если я шлепнусь. Схожу с ума. Жизнь так дорога и так бесценно бесполезно дешево пропадает.»
И чем дальше, тем мысль о самоубийстве становится для Чистякова все более реальной и простой, почти обыденной:
«Вынул наган, подставил к горлу. Так просто можно нажать, крючок и. А дальше я не буду чувствовать ничего. Как просто можно все это сделать. Так просто как будто шутя. И ничего страшного ничего сверхъестественного нет. Как будто съел ложку супу. Не знаю, что меня удержало нажать. Все так реально, все естественно. И не дрожит рука».
Когда Чистяков пишет о самоубийстве, он намеренно снижает пафос и трагизм этого решения — недаром он несколько раз использует для этого жаргонное слово, ставшее употребительным в гражданскую войну – «шлепнуться».
И все же, хотя местами дневник его кажется почти дневником самоубийцы, он не кончает собой. В этом мире, который для Чистякова сузился до пространства лагеря, у него все же есть точки опоры, которые его удерживают. Это — природа Дальнего Востока, тайга, сопки, которые он описывает; пейзажи, которые он рисует — это то, что противостоит для него ужасу бамлаговской жизни.
Но главное, что удерживает его, что дает ему силы и возможность выжить на БАМе,- это дневник. Вести его опасно: в нем нарисована такая страшная картина, он полон такого отчаяния, и такими описаниями происходящего в Бамлаге, что едва ли не каждая строчка может служить доказательством антисоветских настроений Чистякова и стать поводом для посадки. Иногда он прямо говорит об этом:
«Что если прочитает 3-я часть или политчасть эти строки? Они поймут со своей точки зрениия».
Но не делать своих записей он не может: «в дневнике моя жизнь».
Иван Чистяков — маленький человек, и он много раз это говорит, но осознание этого приводит его к тому что на страницах дневника он (пусть только этих на страницах) начинает не только роптать, но и бунтовать против заглатывающей его системы. Он приходит почти к кафкианскому пониманию своего бессилия перед бесчеловечной государственной машиной, стирающей грань между свободой и несвободой. И даже до трагического сарказма, когда пишет об исторической необходимости лагерей:
«Путь крушений тоски и гнева. Путь еще большего ничтожества и унижения человека. Но иногда вступает в силу холодный анализ и многое за недостатком горючего потухает. В истории всегда были тюрьмы и почему же, ха ха ха, не должен в них сидеть я, а только другие. Эта лагерная жизнь необходима для некоторых исторических условий, ну значит и для меня…»
Конечно, это только дневник, но Чистяков — бамовский охранник, который, пусть и, не желая этого, но все же стал винтиком огромной репрессивной машины, — в дневнике отстаивает свое право хотя бы на эти записи.
В 1935 году, когда Чистякова отправляют на БАМ, Сталин произносит знаменитую фразу: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». И в своем дневнике этот маленький человек, как ни поразительно, сам того не осознавая, прямо возражает всесильному вождю. Пусть только шепотом, пусть тайно, Чистяков произносит такую страшную и такую важную для России фразу:
«В системе государства человек ничтожество как человек».
Судьба человека
Дальнейшая судьба автора дневника, по-видимому, разворачивалась так, как он ее предсказывал. В 37-ом году Чистякова арестовывают, но, вероятно он был осужден не на очень большой срок, иначе в 41-ом он не смог бы попасть на фронт и погибнуть — в 300 километрах от своей любимой Москвы, которую ему вряд ли довелось еще раз увидеть.
Мы не знаем, где был Иван Чистяков в 39-ом, году, когда по уже построенной руками заключенных, которых он в 35-36-ом охранял, железной дороге шли длинные эшелоны с новыми потоками на БАМ . Среди них был и один из лучших поэтов 20 века Николай Заболоцкий. Спустя годы он описал БАМ:
«Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья… Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света…В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМА встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез» [fn]Из книги «Странная» поэзия и «странная» проза. Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого (научн. ред. Е.А. Яблоков, Москва, И.Е. Лощилов, Новосибирск). – «Пятая страна», М., 2003, с. 13[/fn].
Чудо, что дневник Чистякова, записи в котором оборвались, вероятно, с его арестом, каким-то образом сохранился, не попал в руки сотрудников НКВД, не был выброшен и уничтожен, что его удалось послать в Москву. Благодаря этому до нас дошел еще один голос одинокого человека, жившего в страшную эпоху.
Ирина Щербакова
Дневник охранника ГУЛАГа








